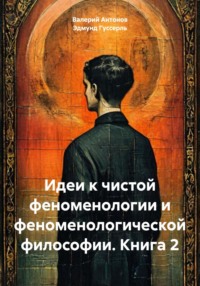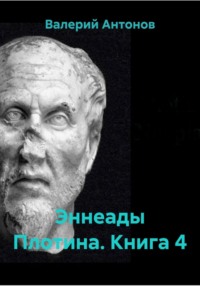Полная версия
Философия Нового времени. Часть 2. Конец XVII – первая половина XVIII вв.
3. Хатчесон
Шефтсбери не был ни систематичным, ни особенно ясным мыслителем. Его идеи были до определённой степени систематизированы и развиты Фрэнсисом Хатчесоном (1694–1746), некоторое время бывшим профессором нравственной философии в Глазго; и я говорю «до определённой степени», потому что Шефтсбери отнюдь не был единственным, кто повлиял на концепции и идеи Хатчесона. В первом издании своего первого труда «Исследование о происхождении наших идей красоты и добродетели» (1725) Хатчесон открыто излагал и защищал принципы Шефтсбери против Мандевиля; но в его «Опыте о природе и управлении страстями и привязанностями, с иллюстрациями относительно нравственного чувства» (1728) видно явное влияние Батлера. В его «Системе моральной философии», отредактированной Уильямом Личманом и вышедшей посмертно в 1755 году, можно наблюдать другие изменения в его мышлении. Наконец, в «Philosophiae moralis institutio compendiaria libris tribus ethices et jurisprudentiae naturalis principia continens» (1742) заметно влияние, в меньшей степени, Марка Аврелия, чьи «Размышления» он в значительной степени переводил одновременно с написанием своего латинского труда. Тем не менее, почти невозможно указать все последовательные модификации, изменения и развития, претерпеваемые его моральной философией, в кратком изложении, которое мы даём о нём в этой главе.
Хатчесон возвращается к теме нравственного чувства. Он знает, конечно, что слово «чувство» обычно используется применительно к зрению, осязанию и т.д., но считает оправданным расширение употребления этого слова, поскольку ум может быть пассивно затронут не только чувственными объектами в обычном смысле этого слова, но и объектами эстетического и морального порядка. Таким образом, он проводит различие между внешними и внутренними чувствами. Посредством внешнего чувства ум получает, используя терминологию Локка, простые идеи или элементарные качества объектов. «Идеи, возникающие в уме при наличии внешних объектов и их воздействии на наши тела, называются ощущениями». Посредством внутреннего чувства мы воспринимаем отношения, вызывающие чувства, отличные от зрения, осязания и слуха отдельно воспринимаемых объектов. Внутреннее чувство в целом делится на чувство прекрасного и нравственное чувство. Объектом первого является «единство среди разнообразия», термин, который Хатчесон использует вместо понятия гармонии, употреблявшегося Шефтсбери. Посредством нравственного чувства «мы воспринимаем удовольствие при созерцании таких (хороших) действий в других и чувствуем расположение любить действующее лицо (причём удовольствие гораздо сильнее, когда мы сами совершили действие), без какого-либо другого побуждения или надежды на последующее благо».
В этом описании нашего восприятия простых идей Хатчесон, несомненно, находится под сильным влиянием Локка. Однако идея нравственного чувства происходит от Шефтсбери, а не от Локка; постулирование существования чувства морали плохо вписывается в этическую концепцию последнего. Пассивность внешнего чувства, которую мы находим в теории Локка о восприятии простых идей, отражается у Хатчесона в пассивности нравственного чувства. Кроме того, Хатчесон достаточно находится под влиянием эмпиризма Локка, чтобы настаивать на различии между теорией нравственного чувства и теорией врождённых идей. Осуществляя наше нравственное чувство, мы не ссылаемся на врождённые идеи, равно как и не излагаем свои собственные идеи. Чувства являются естественными и врождёнными, но с их помощью мы воспринимаем моральные качества так же, как посредством внешних чувств воспринимаем чувственные качества.
Но что именно мы воспринимаем посредством нравственного чувства? Хатчесон не слишком проясняет этот момент. Иногда он говорит о восприятии моральных качеств действий; но если анализировать его точку зрения, то он, кажется, скорее имеет в виду качества характера. Конечно, дело осложняется, по крайней мере в «Исследовании», гедонистическим оттенком, который он придаёт описанию деятельности нравственного чувства. Так, в приведённом выше отрывке он говорит о восприятии удовольствия при созерцании хороших действий, будь то в других или в себе. Но в «Системе моральной философии» он описывает нравственное чувство как «способность воспринимать моральное превосходство и его высшие объекты». «Первичными объектами нравственного чувства являются склонности воли». Но какие склонности? Прежде всего те, которые Хатчесон называет «любовными склонностями», то есть проистекающие из благожелательности. У нас, говорит он, есть ясное восприятие красоты или превосходства в любовных склонностях разумных существ. В «Исследовании» он говорит о восприятии превосходства «во всяком проявлении или доказательстве благожелательности», и в своих более поздних трудах он делает такой же акцент на благожелательности. Но существует неоспоримая трудность в утверждении, что главным объектом нравственного чувства являются склонности, по крайней мере, когда речь идёт о других. Мы можем спросить, как можно воспринимать склонности, кроме наших собственных. Согласно Хатчесону, «объектом нравственного чувства является не какое-либо внешнее движение или действие, а внутренние склонности, существование которых мы можем вывести посредством рассуждения». Возможно, мы можем сделать вывод, что главным объектом нравственного чувства является благожелательность, как она проявляется в действии. Нравственное чувство склонно становиться способностью к определённого рода одобрению определённого рода действий (или, скорее, склонности или расположения действующего лица), а не восприятием «удовольствия». Таким образом, гедонистический элемент в философии Хатчесона отходит на второй план в отношении реальной деятельности нравственного чувства, хотя и не исчезает полностью.
Увидев, какое значение Хатчесон придаёт благожелательности, какое место в его системе занимает себялюбие? Все мы испытываем ряд желаний, направленных на удовлетворение самих себя, удовлетворение, которое не всегда может быть достигнуто, поскольку удовлетворение наших собственных желаний часто сталкивается с удовлетворением желаний других или мешает ему. Однако мы можем привести эти желания в гармонию в соответствии с принципом спокойного себялюбия. По мнению Хатчесона, это спокойное себялюбие морально безразлично, то есть действия, вытекающие из любви к себе, не являются дурными, если только они не вредят другим и несовместимы с благожелательностью, но они и не морально хороши. Или, строже говоря, только любовные или благожелательные склонности (которые составляют главный объект нравственного чувства и которые, в случае их возникновения у лиц, отличных от субъекта нравственного чувства, могут быть выведены из их действий) являются морально хорошими. Таким образом, Хатчесон склонен отождествлять добродетель и благожелательность. В его «Опыте о страстях» определяющим принципом нравственности является спокойная и всеобщая благожелательность, желание всеобщего счастья.
Уже Шефтсбери, настаивая на идее красоты добродетели и безобразия или уродства порока, придал морали сильный эстетический оттенок. Хатчесон продолжил эту линию, говоря о деятельности нравственного чувства в эстетических терминах. Но несправедливо будет сказать, как я думаю, что он просто свёл этику к эстетическим принципам. Он действительно говорит о нравственном чувстве красоты, но под этим он понимает чувство моральной красоты. Эстетическое и нравственное чувства – это разные функции или способности внутреннего чувства в целом, и хотя у них есть некоторые общие черты, они легко различимы. Объектом чувства красоты или эстетического чувства может быть простой объект, рассматриваемый с точки зрения пропорции и расположения его частей и качеств. Тогда мы имеем то, что Хатчесон называет «абсолютной красотой». Это может быть также отношение или совокупность отношений между различными объектами, и тогда мы имеем дело с «относительной красотой». В случае относительной красоты не требуется, чтобы каждый объект, взятый отдельно, был прекрасен. Например, картина семейной группы может быть прекрасна, демонстрируя «единство среди разнообразия», даже если мы не можем сказать о каждом из изображённых на ней людей, что они прекрасны по отдельности. Главным объектом нравственного чувства, как мы видели, являются склонности к благожелательности, вызывающие чувство одобрения. Следовательно, хотя Хатчесон, как и Шефтсбери, и склонен уподоблять этику эстетике, нравственное чувство имеет свой собственный, предназначенный ему объект, и поэтому можно говорить о двух внутренних чувствах.
Следует добавить, однако, что Хатчесон не очень твёрд в отношении числа внутренних чувств или разделения между ними. В «Опыте о страстях» он даёт деление чувств в целом на пять. Помимо внешнего чувства и внутреннего чувства красоты (эстетического чувства) существуют общественные чувства благожелательности, нравственное чувство, чувство чести, которое делает одобрение или благодарность со стороны других за любое совершённое нами доброе дело сильным источником удовольствия. В его «Системе моральной философии» мы встречаем несколько подразделений чувства красоты или эстетического чувства, а также чувства симпатии, нравственного чувства или способности воспринимать моральное превосходство, чувства чести и чувства приличия или благопристойности. В «Компендии», написанном на латыни, Хатчесон добавляет чувства смешного и правдивости. Очевидно, что, как только мы начинаем различать чувства и способности в соответствии с различимыми объектами и аспектами объектов, едва ли существует предел числу чувств и способностей, о которых мы можем говорить.
В этической теории Хатчесона, в которой добродетель, как почти эстетическое превосходство характера, является главной темой, мы не можем ожидать, что слишком много внимания будет уделено теме обязательства, тем более что Хатчесон практически сводит свободу к спонтанности. Тем не менее он предлагает критерий для выбора между различными возможными линиями поведения. «Сравнивая моральное качество действий, чтобы регулировать наш выбор между несколькими возможными действиями или обнаружить, какое из них имеет наибольшие моральные достоинства, мы руководствуемся нашим нравственным чувством добродетели таким образом, что при равной степени счастья, вытекающего из рассматриваемого действия, добродетель пропорциональна числу людей, которых это счастье затронет… так что действие будет тем лучше, чем большему числу людей оно обеспечивает наибольшее возможное количество счастья, и будет тем хуже, чем большее несчастье оно способно причинить большему числу людей». Здесь мы видим явного предшественника утилитаризма. Несомненно, Хатчесон является одним из основных источников утилитаристской теории моральной философии.
Итак, идея существования нравственного чувства, рассматриваемого как восприятие удовольствия при созерцании добрых дел, предполагает скорее чувство, чем рациональный процесс суждения. Но фраза, процитированная в предыдущем абзаце, взятая из той же книги, в которой Хатчесон говорит о нравственном чувстве в гедонистических терминах, описывает это чувство как то, что даёт суждение о последствиях поступков. В своих более поздних работах он пытается систематически соединить эти две точки зрения. Так, в своей «Системе моральной философии» он различает материальное и формальное превосходство действий. Действие является материально хорошим, когда оно служит интересам системы, то есть способствует общественному интересу или счастью, каковы бы ни были склонности или мотивации действующего лица. Действие является хорошим с формальной точки зрения, когда оно проистекает из добрых склонностей в должной пропорции. И материальное, и формальное превосходство действий составляют объекты нравственного чувства. Хатчесон заимствует у Батлера слово «совесть» и различает предшествующую и последующую совесть. Предшествующая совесть – это способность морального решения или суждения, предпочитающая то, что кажется наиболее подходящим для достижения добродетели и счастья человеческого рода. Последующая совесть имеет своим объектом прошлые действия в связи с мотивами или склонностями, из которых они возникли.
В «Исследовании» обязательство описывается как «определённость, не принимающая во внимание наш собственный интерес, одобрять поступки и совершать их, определённость, которая заставляет нас быть недовольными собой и чувствовать себя неловко, когда мы действуем вопреки ей». Хатчесон также объясняет, что «ни один смертный не может обрести безмятежность, удовлетворённость и одобрение собственного поведения, кроме как подвергнув серьёзному исследованию направленность своих действий и постоянно изучая всеобщее благо в соответствии с наиболее правильным его пониманием». Но эти предостережения едва затрагивают проблему обязательства. Из его описания нравственного чувства кажется, что скорее моральная красота добродетели, чем обязательный характер определённых действий, предстаёт перед нами непосредственно. Возможно, он хочет сказать, что целесообразность действий, способствующих наибольшему благу наибольшего числа людей, непосредственно очевидна для любого, кто обладает нравственным чувством, ничем не замутнённым. Но в его «Системе моральной философии» и латинских «Компендиях» «правильный разум» предстаёт как источник закона, как наделённый авторитетом и юрисдикцией. Склонности – это голос природы, а голос природы – это отзвук голоса Бога. Но этот голос нуждается в интерпретации, и правильный разум, поскольку одной из функций совести или нравственной способности является издание предписаний. Эту способность Хатчесон, используя стоическое выражение, называет гегемоникон (правящее начало). Здесь нравственное чувство становится нравственной способностью и приобретает рационалистический оттенок.
В этической теории Хатчесона так много разных элементов, что, кажется, невозможно гармонизировать их все. Но одной из главных черт его размышлений о морали является уподобление морали эстетике, черта, общая с Шефтсбери. И если учесть, что оба философа говорят о моральных и эстетических «чувствах», то интуиционизм может иметь много общего с теориями обоих. Однако оба автора были озабочены опровержением гоббсовской теории эгоистической природы человека. И Хатчесон особенно делает такой акцент на благожелательности, что кажется, будто она должна занимать преобладающее место в нравственности. Идеи благожелательности и альтруизма естественным образом способствуют сосредоточению на идее общего блага и стремления к наибольшему благу или счастью для наибольшего числа людей, что составляет благоприятный мост для перехода к утилитаристской интерпретации морали. Но утилитаризм, с его озабоченностью последствиями действий, подразумевает суждение и рассуждение, так что нравственное чувство должно быть чем-то большим, чем просто «чувство». И если, как того хотел Хатчесон, связать мораль с метафизикой и теологией, решения нравственной способности или совести становятся отражением голоса Бога, не в том смысле, что мораль произвольно выбрана Богом, а в том, что одобрение морального превосходства нравственной способностью отражает или является зеркалом одобрения Богом этого превосходства. Эта линия мысли, несомненно, находившаяся под влиянием в определённой степени чтения Батлера, не является типичной для Хатчесона. В истории моральной теории Хатчесона помнят как защитника теории нравственного чувства и как предшественника утилитаризма.
4. Батлер
И Шефтсбери, и Хатчесон стремились выровновесить чашу весов, перекошенную гоббсовской интерпретацией эгоистической природы человека. Оба, как мы видели, настаивали на социальном характере человеческого существа и его естественном альтруизме. Но в то время как Шефтсбери, считая, что сущность добродетели заключается в гармонии себялюбия с альтруистическими склонностями, включал себялюбие в сферу полной добродетели, Хатчесон склонялся к отождествлению добродетели с благожелательностью и, хотя открыто не осуждал «спокойное себялюбие», считал его морально безразличным. В этом смысле епископ Батлер встал на сторону Шефтсбери скорее, чем Хатчесона.
В своём «Рассуждении о природе добродетели», опубликованном в 1736 году в качестве приложения к «Аналогии религии», Батлер отмечает, что «представляется уместным заметить, что благожелательность и стремление к ней, рассматриваемые как единственная характеристика, никоим образом не составляют всей полноты добродетели и порока». Хотя он не упоминает имени Хатчесона, он, несомненно, имеет его в виду, когда говорит: «некоторые лица больших заслуг и талантов выражались, как мне кажется, таким образом, что может быть опасно для непредупреждённого читателя, поскольку может возникнуть впечатление, что добродетель состоит просто в стремлении, согласно лучшему суждению, к счастью человека в этой жизни, а порок – в совершении необходимого для производства избытка несчастья в человеческом роде». Батлер считает, что это большая ошибка, поскольку иногда может случиться, что акты несправедливости или преследования увеличат счастье в будущем. Конечно, наш долг – способствовать, «в пределах правдивости и справедливости», общему счастью, но измерять моральность действий просто по их видимой способности или неспособности обеспечить наибольшее счастье наибольшему числу людей – значит открывать двери для всякого рода несправедливостей, совершаемых во имя будущего счастья человеческого рода. Мы не можем с уверенностью знать, каковы будут последствия наших действий. Кроме того, объектом нравственного чувства является действие, и хотя намерение является частью действия, рассматриваемого в целом, оно не составляет всей полноты действия. Мы можем иметь намерение достичь хороших или дурных последствий, но из этого не следует с необходимостью, что действительно произошедшие последствия будут теми, которых мы желали или ожидали.
Таким образом, добродетель не может быть сведена просто к благожелательности. Благожелательность, несомненно, присуща человеку от природы, но также присуще ему и себялюбие. Однако термин «себялюбие» неоднозначен, и необходимо провести некоторые разграничения. Каждый человек имеет желание или стремление к собственному счастью, которое «проистекает из себялюбия или является любовью к себе». «Это свойственно человеку как существу, размышляющему о своих собственных интересах или счастье». Себялюбие в общем смысле принадлежит природе человека и, хотя оно отлично от благожелательности, не исключает её, поскольку желание собственного счастья – это желание общего характера, в то время как благожелательность – это частная склонность. «Не существует никакого особого противоречия между себялюбием и благожелательностью, по крайней мере не большего, чем между любой другой частной склонностью и любовью к себе». Дело в том, что счастье, объект или цель себялюбия, не отождествимо с ним самим. «Счастье или удовлетворение состоит исключительно в наслаждении теми объектами, которые естественным образом соответствуют нашим частным влечениям, страстям или склонностям». Благожелательность – это естественная человеческая склонность, и нет никаких причин, чтобы её осуществление не способствовало нашему счастью. Конечно, если счастье состоит в удовлетворении наших естественных влечений, страстей и склонностей, и если благожелательность или любовь к ближнему составляет одну из таких склонностей, то её удовлетворение будет способствовать нашему счастью. Следовательно, благожелательность не может противоречить себялюбию, которое есть желание счастья. Однако может возникнуть конфликт между удовлетворением определённого влечения, страсти или склонности, например, желания богатства, и благожелательности, и все мы знаем значение слова «эгоист». Когда люди говорят, что себялюбие и благожелательность несовместимы, это обычно происходит из-за путаницы между эгоизмом и любовью к себе. Но это неудачная путаница, поскольку не принимает во внимание тот факт, что то, что мы называем эгоизмом, вполне может быть несовместимо с истинным себялюбием. «Нет ничего более обычного, чем видеть людей, отдавшихся страсти или склонности, которая оборачивается их собственным вредом и гибелью и находится в прямом противоречии с их реальным интересом и велениями себялюбия».
Батлер иногда противопоставляет «разумное себялюбие» или «умеренное себялюбие» «неумеренному себялюбию». Он также различает «любовь к себе» и «мнимую любовь к себе» или «мнимый интерес», и, возможно, такой способ выражения предпочтительнее, поскольку он различает желание целей, достижение которых действительно приносит счастье, и желание вещей, которые лишь ошибочно считаются приносящими это счастье. Частные удовольствия, которые в совокупности составляют «сумму общего счастья», иногда считают «проистекающими из богатства, почестей, удовлетворения плотских влечений». Но ошибочно думать, что эти удовольствия являются единственными составляющими человеческого счастья, и люди, думающие так, имеют ложное представление о том, что составляет любовь к себе.
Можно, конечно, возразить, что счастье иногда субъективно и что каждый индивид – лучший судья в определении того, в чём состоит его собственное счастье. Но Батлер отвечает на эти возражения, показывая, что «счастье» имеет определённый и объективный смысл, независимый от различных представлений, которые разные люди имеют о счастье. Для этого он даёт определённое объективное содержание понятию природы, то есть человеческой природы. Во-первых, он упоминает два возможных значения слова «природа», чтобы сразу же отбросить их. «Обычно под природой понимают не что иное, как некоторые из существующих в человеке начал, не принимая во внимание ни их вид, ни степень». Но когда мы говорим, что природа есть норма морали, ясно, что мы не используем слово «природа» в предыдущем смысле, то есть для обозначения влечения, страсти или склонности без учёта их характера или силы. Во-вторых, «часто под природой понимают те самые сильные страсти, которые в наибольшей степени влияют на действия». Но и это значение слова также следует отбросить, иначе мы были бы вынуждены признать, что человек, у которого доминирующим фактором было чувственное влечение, является добродетельным человеком, поскольку он действовал в соответствии со своей природой. Следовательно, мы должны искать третье значение термина. Согласно Батлеру, «начала», как он их называет, человека образуют иерархию, в которой есть высшее начало, наделённое авторитетом. «В каждом человеке существует высшее начало рефлексии или совести, которое различает внутренние начала его сердца, а также его внешние действия, которое судит о самом себе и о действиях, квалифицируя их как справедливые, беспристрастные, хорошие или несправедливые, ошибочные или дурные…» Поэтому всякий раз, когда совесть правит, можно сказать, что человек действует в соответствии со своей собственной природой, тогда как если его действия направляются каким-либо иным началом, кроме совести, можно сказать, что такие действия противоречат его природе, и действовать в соответствии с природой – значит достигать счастья.
Но что Батлер понимает под совестью? Процитированная выше фраза показывает, конечно, что, по его мнению, совесть выносит суждения о доброте или порочности характера, будь то собственного или чужого, а также о добре или зле, справедливости или несправедливости действий. Но это не проясняет для нас точную природу и статус совести. В «Рассуждении о природе добродетели» он говорит о совести как о «способности одобрять и не одобрять». И в следующей главе он снова говорит об этой «нравственной способности, называйте ли вы её совестью, нравственным разумом, нравственным чувством или божественным разумом; считаете ли вы её чувством рассудка или восприятием сердца, или, что кажется верным, включаете и то и другое». С другой стороны, Батлер иногда, на первый взгляд, даёт понять, что совесть и любовь к себе – это одно и то же.
Рассмотрим сначала этот последний пункт. Батлер утверждал, что себялюбие или любовь к себе – это высшее начало человека. «Если страсть берёт верх над любовью к себе, действие, вытекающее из этого, не будет естественным, но если себялюбие берёт верх над страстью, действие естественно: ясно, что в человеческой природе любовь к себе есть начало, высшее по отношению к страсти, поскольку последняя может противоречить себе, не нарушая природы, в то время как первое не может. Так что, если мы действуем в соответствии с устройством человеческой природы, действиями должна руководить любовь к себе». Но это не привело его к утверждению, что себялюбие и совесть тождественны. По мнению Батлера, оба они, как правило, совпадают, но именно утверждение этого предполагает, что они не одно и то же.
«Бросается в глаза, что в течение жизни нам редко предлагается дилемма между нашим долгом и тем, что мы называем интересом; и ещё реже возникает противоречие между нашим долгом и тем, что на самом деле составляет наш интерес, понимая под интересом счастье и удовлетворение». «Любовь к себе, следовательно, даже если её свести к интересу этого мира, обычно совершенно совпадает с добродетелью, побуждая нас вести одну и ту же жизнь». С другой стороны, «совесть и любовь к себе, если мы хотим достичь нашего истинного счастья, всегда ведут нас одним и тем же путём. Долг и личный интерес совпадают в большинстве случаев, когда речь идёт о делах этого мира, но совпадают полностью и во всех случаях, если принять в расчёт будущее в целом; на это указывает благое и справедливое управление вещами». Совесть может предписывать линию поведения, которая не согласуется или, кажется, не согласуется с нашим временным интересом, но в долгосрочной перспективе, если учесть будущую жизнь, совесть всегда предписывает то, что совпадает с нашим истинным интересом и способствует нашему полному счастью. Но из этого не следует, что совесть – это то же самое, что и любовь к себе, поскольку именно совесть говорит нам, что мы должны делать, чтобы способствовать нашему полному счастью как человеческих существ. Это также не означает, что мы должны делать то, что нам предписывает совесть, только для того, чтобы служить нашему собственному интересу. Ведь сказать, что совесть велит нам делать то, что служит нашему интересу, или что интерес и долг совпадают, – не то же самое, что сказать, что мы должны исполнять свой долг с целью обеспечить собственный интерес.