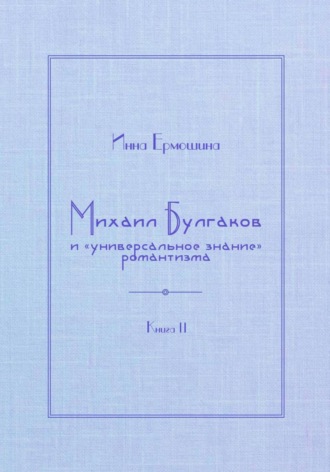
Полная версия
Михаил Булгаков и «универсальное знание» романтизма. Книга 2. Мудрость профессора Преображенского
И теперь мы приближаемся к одному из самых важных примечаний, касающихся сравнения гётевского и булгаковского гомункулов в части их духовной компоненты. Концепт «душа» в общепринятом понимании той эпохи, когда формировалось мировоззрение М. Булгакова, был напрямую связан с концептом «сердце», что зафиксировано в Толковом словаре В. Даля: «Душа… душевные и духовные качества человека, совесть, внутреннее чувство»108; «Сердце… нутро, недро…, средоточие… нравственно оно есть представитель любви, воли, страсти, нравственного, духовного начала…»109. То есть именно сердце как средоточие духовных качеств булгаковского полноценного гомункула оказалась паршивым. Фабульно неудача эксперимента Преображенского выглядит как вскрытие практикой изначальной неосведомленности московского мудреца о неких тонкостях в связи тела и души, так как оказалось, что железы внутренней секреции человека, пересаженные собаке, физиологически и духовно возродили к жизни не высокостоящее существо, а конкретного человека – Клима Чугункина со всеми его ужасающе низкими душевными качествами.
У булгаковского профессора, как и у Фауста Гёте, после создания гомункула возрастают знания и обогащается опыт. Именно после истории с гомункулом Фауст сумел отелеснить Елену Прекрасную и вступить с нею в брак. Булгаковский профессор в повести СС понимает, что «нарвался на этой операции, как третьекурсник» [25, с. 503], т.е. как студент, освоивший теорию, но не проверивший ее на практике. Заслуга Преображенского – развенчание прекраснодушных представлений о неважности качества исходного материала для создания гомункула, как духовных, так и материальных его компонентов. Итоги эксперимента булгаковского профессора, судя по пафосному их озвучиванию в повести, подаются писателем как открытие, важное для теории и практики искусственного создания человека в целом.Из дневника Борменталя: «Гипофиз – закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное!.. а не общечеловеческое!»[25, с. 504].
Таким образом, суть экспериментов с гомункулами у Гёте и Булгакова схожа: писатели в манипуляциях с искусственно созданными живыми существами подразумевают одинаковые их компоненты – душу и тело. Также проявляется и узкий аспект сравнения – качественные характеристики душ гомункулов. У Гёте качества гомункула носятобобщенный характер, как следует из приведенной выше реплики Гёте из беседы с Эккерманом: ясность прозорливого ума, тяга к красоте и плодотворной деятельности, бунтарство, роднящее его с Мефистофелем. Гомункул Вагнера в полной мере «новое существо», у него нет отягощающего и омрачающего опыта. Булгаков же сосредоточен в описании московского гомункула на его качественных характеристиках души/сердца, которые являются результатом жизненного опыта конкретного человека.
А какова позиция героя романа Уэллса – создателя зверолюдей-гомункулов доктора Моро? Он демонстрирует веру в существование мыслей-идей, моделирующих живую материю, утверждая, что относится не к материалистам, а к верующим, постигающим пути Творца [144, c. 207–208], признающим важность и обособленность духовной составляющей живого существа. Эксперимент Моро строится на предположении о существовании «внутренних настроек» зверолюдей, отвечающих за чувственность, и в этой его идее актуализируется представление о «нижней», «животной» душе платоников и неоплатоников. Моро верит, что зверолюдей можно натренировать, длительными упражнениями и лекциями сконструировав ум и высокие стремления к познанию. Он говорит Прендику: «Духовная область изучена наукой еще меньше физической. С помощью развивающегося в наши дни искусства гипнотизма мы заменяем старые наследственные инстинкты новыми внушениями, как бы делая прививки на почве наследственности» [144, c. 206]110. В теории Моро ведущую роль в «очеловечивании» в его лаборатории играет страдание как сила, способная превратить «низшую материю» в «высшую». Демонстрируя мистеру Прендику свою нечувствительность к физической боли (доктор воткнул нож себе в бедро), Моро показывает свой идеал «высшего существа», в котором важны только «разум, подлинно открытый науке» [144, c. 207], «умственная жажда», «прелесть стремлений мысли» [144, c. 208]. Чувства в представлении Моро затемняют разум, мешают познанию: «До тех пор, покуда вы можете видеть мучения, слышать стоны, и это причиняет вам боль, покуда ваши собственные страдания владеют вами, покуда на страдании основаны ваши понятия о грехе, до тех пор, говорю вам, вы животное» [144, c. 207]. Уэллсовский доктор намеренно испытывает своих гомункулов и заставляет их страдать (все операции он проводит без обезболивания), чтобы убить в зверолюдях все чувства и воспитать в них бесстрастный разум. «Всякий раз, – говорит Моро, – как я погружаю живое существо в купель жгучего страдания, я говорю себе: на этот раз я выжгу из него все звериное, на этот раз я сделаю разумное существо» [144, c. 212].
Теория доктора Моро, как видим, находится в русле фаустианских проблем. Обозначенная Гёте яркая особенность нового времени – загрязнение «чистого огня разума» «темным огнем страстей» познающего и отнесение этого «загрязнения» к важнейшему предмету познания, так как не поняв себя человек не способен понять мир «до донышка», наглядно представлена Уэллсом в попытках доктора Моро искоренить «грязь» чувствований из гомункулов во имя «чистой» умственной жажды и показательной неудаче Моро на этом поприще.
Хирургическая часть опытов Моро была успешной – человеческие тела для своих гомункулов он создавал, а вот человекообразовательный процесс буксовал. Невзирая на все усилия Моро, в душах созданных им зверолюдей продолжали жить звериные инстинкты и страсти: «Я вижу их насквозь, вижу самую глубину их душ и нахожу там только зверя. Их звериные инстинкты и страсти продолжают жить и искать выхода» [144, c. 213]. Моро как исследователь определил для себя название того, что мешало ему создать совершенного человека: условный«центр эмоций» – «нечто, лежащее в самой основе эмоций» [144, c. 212]. Он твердо верил, что проблема этого центра, который он считал рудиментом, требующим полного уничтожения, будет им решена, все дело только во времени. Десять лет его экспериментов – миг по сравнению с тысячелетиями естественной эволюции [144, c. 212], и через много лет ему удастся создать живое существо без чувств, только с «чистым разумом».
Что Моро подразумевает под «центром эмоций»? В описании чувствований, которыедоктор желает взять под контроль и повелевать ими, перечислены реакции его подопытных на жестокие испытания в операционной: боль, страх, ненависть, злоба. Энциклопедический словарь Брокгауза синонимом понятия «эмоции» называет «чувствование»111, а в Толковом словаре В. Даля сердце – «нутро», «средоточие», «нутровая средина» духовного начала, противоположного началу умственному. У Даля: «всякое внутреннее чувство сказывается в сердце»: «мягкое, доброе, теплое, любящее сердце» – человек по нравственному состоянию своему»112. Таким образом, «центр эмоций» в уэллсовском романе можно рассматривать одновременно и как «нижнюю», страстную душу, обслуживающую нужды тела, и как сердце/душу.
Эксперимент Моро терпит крах. Его зверолюди не поддались ухищренным тренировкам и урокам, сохранив «зверное нутро», чувствования и повадки животных. В финале задуманный как самый совершенный – человек, сделанный Моро из пумы – убивает своего создателя. Недооценка доктором «центра эмоций» и неудачные попытки управлять им привели к тотальной катастрофе на острове и в лаборатории, к гибели людей. «Нутро», связанное с чувствами, сердцем, душой стало камнем преткновения для героя Уэлллса. Итоги эксперимента Моро, как и результаты опытов булгаковского профессора Преображенского, похоже, призваны были отобразить веяния эпохи. И Уэллс, и Булгаков на примере своих героев касались темы слабых мест набиравшего мощь естествознания, проседания его в вопросах, связанных со сферой чувствований и духа.
Обращаясь в своей повести, как и Уэллс, к теме вторжения человека в тайны живой материи, Булгаков дает ей название «Собачье сердце» и делает собаку персонажем, от лица которого ведется рассказ в первой части повести. События разворачиваются вокруг чувствований и переживаний зверя/животного.Читателю дана возможность прочувствовать вместе с «собачьим героем» его боль и страх смерти от обваренного бока, его одиночество, голод и замерзание на морозе, а позже – его блаженство в теплой и чистой квартире нового хозяина, обожание поварихи профессора Дарьи Петровны, преклонение перед «добрым волшебником», недоверие к Борменталю, ненависть к чучелу совы, удивление происходящим в кабинете Преображенского, тоску и ужас перед операцией. Отметим, что в спектре чувствований московской дворняги Булгаков не акцентировал внимание только на негативных эмоциях зверя, как это происходит у героя романа Уэллса в отношении зверолюдей. Довольство, радость, восхищение, благодарность также доступны животным. Российский писатель погружает читателя в жизнь собачьего сердца/«центр эмоций» пса во всем его многообразии, и осознание этого позволяет оценить название булгаковской повести «Собачье сердце» как диалогическую реплику, определяющую мировоззренческую позицию российского писателя в отношении камня преткновения для экспериментов доктора Моро в романе Уэллса – «центра эмоций», вытравливаемого страданиями.
С самого начала хорошо прослеживается разница в звучании «собачьей темы» в романе Уэллса и повести Булгакова. В романе бегство доктора Моро на остров из лондонской лаборатории произошло после скандала, раскрывшего его ужасающую кровожадность. Страшные подробности исследований Моро раскрылись благодаря собаке, сбежавшей из его лаборатории «с ободранной шкурой и … искалеченной» [144, c. 171].
У Булгакова ситуация противоположна уэллсовской: уличный пес с обваренным боком, взятый для эксперимента, проводит в квартире Преображенского до операции блаженные дни. Шарик счастлив: «…до чего хорошо! <…> Видно, мое счастье!» [25, с. 444]. Его специально откармливали, по словам горничной Зины: «Он весь дом обожрал! <…> Я удивляюсь, как он не лопнет!» [25, с. 457]. Сам профессор лично участвовал в вычесывании блох из его шерсти [25, с. 460]. Наконец, явно в противовес отвергаемому доктором Моро обезболиванию при операциях для усиления страданий читателю повести Булгакова представлено описание использования наркоза для Шарика, что усыпляет его страхи перед началом операции и явно исключает страдания в ее ходе: «Ужас исчез, сменился радостью, секунды две угасающий пес любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся кверху дном… Потом – ничего» [25, с. 463]. В отличие от доктора Моро, хозяинаДома страданий, которого боятся все зверолюди,профессор Преображенский для подопытного Шарика – «добрый волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки» [25, с. 456].
Булгаков, как и Уэллс, раскрывает «проблему сердца», сделав основой повествования «страстные»/душевные переживания подопытного существа, тем самым утверждая ценность в том числе и «нижней» души. Представляя феерию чувствований дворовой собаки, писатель решает важную задачу – обосновать ценность каждого и любого сердца, не выстраивая механически иерархию, в которой человеческое сердце априори первенствует по качествам. Характеризуя Шарика, профессор Преображенский отмечает, что пес «ласковый… но хитрый» [25, с. 467]. Заменив Шарику семенники и гипофиз на человеческие, не тронув при этом сердца и получив в итоге московского гомункула, Преображенский может сосуществовать с Шариковым лишь до момента, пока прижившийся гипофиз человека преобразует способ чувствования (душу, сердце) ласкового и хитрого Шарика в способ чувствований Клима Чугункина. «Зародившийся» в лаборатории персонаж, «экспериментальное существо» [25, с. 504] оказывается вовсе не «человеком с собачьим сердцем» [25, с. 505], как определяет его Борменталь, а человеком со своим, человеческим сердцем. Важный маркер качества сердца Чугункина – деталь его смерти: он убит ударом ножа именно в сердце [25, с. 475]. Однако после операции его грешная душа получает новый шанс возродиться к жизни, а вот сердце Шарика умирает (Преображенский о Шарикове: «…весь ужас в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которое существует в природе» [25, с. 505]). Неравновесность этой замены отмечается профессором, Преображенский характеризует своего гомункула Шарикова как «еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо», подчеркивает его чисто звериные поступки [25, с. 494], сетуя при этом, чтомилейшего пса превратил «в такую мразь, что волосы дыбом встают» [25, с. 503].
Душа, «сердце» Шарика в повести Булгакова описаны так красочно, что вполне могут составить содержание особого фразеологизма «собачье сердце», подобно упомянутому в словаре Даля «воробьиному сердцу», характеризующему «в ничтожном человеке кипучий нрав»113. В образе Шарика писатель, похоже, описывает тип ласково-простодушной души с хитринкой, обладающей «секретом покорять сердца людей» [25, с. 459].
Диалог Булгакова с Уэллсом в рамках фаустианства, как видим, достаточно содержателен: контрапунктом к бессилию героя Уэллса доктора Моро перед «центром эмоций» живого существа и низверженному положению чувствующей души по отношению к разуму в его эксперименте у Булгакова стала постановка «собачьего сердца» в центр сюжета, равноправное участие дворняги в событиях эксперимента и демонстрация более высоких качеств «собачьего сердца» в сравнении с человеческим.
Наверное, именно так выглядит преемственность и одновременно развитие литературы, проявленные так ясно в диалоге писателей в границах темы «великий профессор, вторгающийся в сокровенные тайны жизни».
4.Литературный диалог М. Булгакова и Г. Уэллса в теме пластичности живой материи: разница подходов к созданию гомункула Преображенским и Моро
Г. Уэллс в «Острове доктора Моро» и М. Булгаков в «Собачьем сердце» затронули большой комплекс проблем, связанных с темой «пластичности живых форм»; опираясь на общую для них платоновскую идею «двусоставности» живого существа, подразумевающую смертное тело и вечную душу, писатели по-разному представили процесс создания гомункулов в экспериментах своих фаустов.
Уэллсовский доктор Моро, оперируя и создавая людей из разных органов тел животных тела, получал в итоге «зверолюдей», которых нужно было с нуля обучать умению говорить, читать, считать, а также основам общежития в поселениях, построенных для них на острове. Описывая Прендику свои наблюдения над подопытными, Моро отмечал: «Они не люди, а обыкновенные животные…» (Hi non sunt homines, sunt animalia qui nos habemus) [144, c. 201]; их «центр эмоций» сохранял звериную природу, т.е. память о животном прошлом, а мозг был «совсем чистой страницей: в нем не сохранилось никаких воспоминаний о том, чем он был раньше» [144, c. 210].
Моро и его помощникам приходилось предпринимать огромные усилия для «очеловечивания» зверолюдей. Каждую новую партию гомункулов приходилось обучать 3-4 месяца [144, c. 210]. И в дальнейшем уроки приходилось повторять раз за разом. «Человеческое» существование зверолюдей держалось на огромном страхе перед своим создателем и на постоянных, ежедневных внушенияхправил «человеческой жизни» особыми чтецами, Уэллсом назвал их глашатаями Закона: «Не ходить на четвереньках – это Закон. Разве мы не люди? <…> Не охотиться за другими людьми – это Закон. Разве мы не люди?» [144, c. 193].
В романе сеансы таких чтений Закона глашатаем и подпеваний ему зверолюдьми представлены подобием языческого обряда, идолом которого был сам доктор Моро, создатель «Закона». Зверолюди распевали хором неизменную формулу о Моро: «Ему принадлежит Дом страдания. Его рука творит. Его рука поражает. Его рука исцеляет. <…> Ему принадлежит молния… Ему принадлежит глубокое соленое море. <…> Ему принадлежат звезды на небесах» [144, c. 194]. Невольный гость острова Моро – Прендик – отмечал: «Моро, превратив этих животных в людей, вложил в их бедные мозги дикую веру, заставил их боготворить себя» [144, c. 194].
Итак, зверолюди в романе Уэллса –телесно и умственно новые живые существа, сохранявшие в повадках и эмоциях память о своем зверином прошлом. Смена биологической формы тела на человеческую в лаборатории Моро требовала тяжелой последующей работы по очеловечиванию их «нутра». Выбранный Уэллсом для своего Фауста-Моро вариант создания гомункулов основан на идее первичности в этом деле морфологии, физиологии и биохимии живого организма, т.е. в предположении, что именно с тела начинается формирование живого существа.Эта идея последовательно развивается Уэллсом: в основе проводимых Моро операций лежит представление о единых принципах функционирования всех органов и тканей живых организмов, а значит, о возможности их приживаться в разных организмах, что позволяет хирургически перекраивать тела животных в тело человека. Моро утверждает, что человека от животных телесно отличает только более совершенное строение гортани и мозга: «Главное различие между человеком и обезьяной заключается в строении гортани, в неспособности тонкого разграничения звуков – символов понятий, при помощи которых выражается мысль» [144, c. 206]. Здесь опять сделан акцент напервичности телесной части в деле создания гомункулов:усложненная гортань – база для возможности произносить сложные звуки, слова и, как следствие этого, формулировать мысли.
Уэллсовский «Фауст» считал возможным, создав тело человека, на следующем этапе полностью очеловечить зверолюдей: сформировать ум, «надрессировать», изничтожив попутно их сохранявший животную природу «центр эмоций».Идеал доктора Моро – человек без чувствований, фактически, существо без сердца (!), обладающее только разумом. Судя по трагическому финалу дела Моро, Уэллс вынес приговор своему главному герою, не желавшему вникать в суть того, что есть душа и почему так устойчив к воздействиям извне «центр эмоций» зверолюдей. Как бесперспективный оценен палочный метод создания высокостоящего существа, и вместе с тем в романе заметна однозначность оценки «звериной души» как изначально и тотально низшей в сравнении с душой человека.
В эксперименте булгаковского Фауста в повести СС происходит такое же чудо, как и в лаборатории доктора Моро, – «вызывание к жизни» человека при помощи скальпеля хирурга, сотворение гомункула, названного «новой человеческой единицей» [25, с. 474], «новым организмом», который «наблюдать… нужно сначала» [25, с. 476]. Гомункул Преображенского создан не из разных органов тел разных животных, а в результате пересадки собаке половых желез и придатка мозга человека, причем по результатам эксперимента утверждается, что гипофиз – «это в миниатюре сам мозг!» [25, с. 504].Булгаков акцентирует внимание на том же органе, который, наряду с гортанью, уэллсовскому Фаусту кажется наиважнейшим для высокостоящего существа, и вместе с тем фабула булгаковской повести показательно сосредоточена еще и на проблеме «сердца» («души зверя») подопытного пса Шарика и наследующего ему, вышедшего «в люди» гомункула Шарикова. Так проявляется единая содержательная основа литературного диалога Уэллса и Булгакова, и в этом диалоге представленный Булгаковым процесс создания гомункула основывается на иных принципах, нежели в романе Уэллса.
Начнем с мозга. Шариков, новая человеческая единица, в течение трех недель формируется как «совершенный человек по строению тела» [25, с. 476] и одновременно с этим проходит курс обучения в квартире Преображенского. Его обучение происходит быстро, оно не связано с великими и постоянными трудностями, как у зверолюдей на острове доктора Моро. Сначала обучение касается только некоторых бытовых навыков: умения пользоваться одеждой, обихаживания телесных нужд, что сопровождается недолгими и несложными усилиями Борменталя. В научном дневнике, отображающем процесс превращения пса в человека, Борменталь пишет: «Повторное систематическое обучение посещения уборной. <…> Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идет на лад» [25, с. 473].
«Полное очеловечение» московского гомункула (в дневнике Борменталя это «подчеркнуто три раза» [25, с. 472]) произошло всего за один месяц. Никаких дрессировок, регулярных чтений, сеансов гипноза, как со зверолюдьми на острове Моро, не понадобилось. Говорить Шариков начал сам, Борменталь описывает в дневнике быстрое и самостоятельное научение говорению («гладко ведет разговор» [25, с. 476]): лексикон обогащался «каждые пять минут… новым словом», а потом и новыми фразами [25, с. 473]. Борменталем подчеркнута высокая степень словесных реакций Шарикова: «…слова, произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них» [25, с. 474]. Шариков сам, без научения, продемонстрировал еще и умение ругаться: «Ругань эта методическая, беспрерывная…» [25, с. 472]. Не менее важно указание Борменталя в дневнике наблюдений на то, что Шариковсмог читать без всякого обучения: «Читал!!! (три восклицательных знака)» [25, с. 475]. В последующем это подтверждается сюжетно: когда Швондер дал Шарикову для прочтения книгу, переписку Энгельса с Каутским, Шариков ее прочел [25, с. 493]. Кроме того, московский гомункул, опять же без обучения, с «залихватской ловкостью» играет на балалайке с «хитрыми вариациями» [25, с. 477]. Всего через два месяца после своего «рождения» в облике человека Шариков становится заведующим подотделом очистки Москвы от бродячих животных в отделе МХК [25, с. 508]. Человекообразовательный процесс в эксперименте булгаковского профессора связан не с научением, а с воспоминанием-восстановлением у гомункула уже знакомых ему навыкав и способностей.
Для понимания кардинальной разницы в описании превращения зверя в человека в экспериментах персонажей Булгакова и Уэллса важна запись в научном дневнике Борменталя от 12 января: «По моему предположению, дело обстоит так: прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу, и слова хлынули потоком. По-моему, перед нами оживший развернувшийся мозг, а не мозг, вновь созданный» [25, с. 474]. Также важны реплики профессора Преображенского, резюмирующие итог эксперимента по превращению собаки в человека: «Гипофиз – закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное! <…> а не общечеловеческое…»; «Но кто он? Клим! Клим! <…> две судимости, алкоголизм, «все поделить»…» [25, с. 504]; «…ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он… привит на собачий мозг, дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего…» [25, с. 505]. От профессора звучит также обращение к Борменталю по поводу его записи в научном дневнике о гомункуле как полностью новой человеческой единице: «Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории шариковской болезни. Мое открытие…, с которым вы так носитесь, стоит ровно один ломаный грош…» [25, с. 503].
Реплики профессора, дополняя информацию в научном дневнике ассистента Преображенского, позволяют приблизиться к используемым Булгаковым идейным основам эксперимента Преображенского: при вживлении гипофиза в мозг собаки начался процесс восстановления телане человека вообще, а тела и души Клима Чугункина – балалаечника и хулигана, убитого ударом ножа в сердце. Судя по быстрому научению обихаживать тело, употреблять «уличные» слова (его первые слова из климовского «словаря»: «Сегодня, после того, как у него отвалился хвост, он произнес совершенно отчетливо слово «пив-ная»» [25, с. 470]; «он произносит очень много слов: «Извощик», «Мест нету»… и все бранные слова» [25, с. 471]), всеми этими навыками Клим Чугункин владел в своей человеческой жизни и теперь, по мере последовательной работы его гипофиза по насыщению организма бывшей собаки человеческими гормонами (Преображенский: «Этих гормонов в гипофизе, о господи…» [25, с. 504]), происходит постепенное возвращение прежнего человеческого, климовского набора навыков и умений, т.е. разворачивание человеческого мозга и сердца с определенными, уже имеющимися качествами и уровнем развития, которые Преображенский определил достаточно ёмко, обращаясь к своему гомункулу: «Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные…» [25, с. 494]. Булгаковский «Фауст», как и доктор Моро Уэллса, в поисках способа «обращать зверей в людей» [25, с. 516] не создал высокостоящее существо, а воссоздал, возродил существо, более близкое к зверям, нежели к человеку. Дневник Борменталя: «С Филиппом что-то страшное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: “Вы думаете?” Тон его зловещий. <…> Старик <…> сидит над историей того человека, от которого взяли гипофиз <…> Не все ли равно, чей гипофиз?» [25, с. 475–476]. «Новое существо» от Преображенского связано с конкретной личностью Клима Чугункина, и в повести не оставлено надежды его переучить и перевоспитать, о чем свидетельствует беседа Преображенского и Борменталя перед второй операцией, возвращающей жизнь собаке и отправляющей в небытие Шарикова. Борменталь: «Вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?» [25, с. 502]. В ответ Преображенский сначала акцентирует внимание своего ассистента на том, что он прекрасно разбирается «в анатомии и физиологии… человеческого мозгового аппарата» [25, с. 502] и, получив от него утверждение, что он – первый в этом деле не только в Москве, а и в Лондоне, и Оксфорде, резюмирует: пересадка мозга в миниатюре воссоздала Клима – исключительного прохвоста, хама и свинью, и перед Преображенским теперь «тупая безнадежность», он «потерялся» [25, с. 504].


