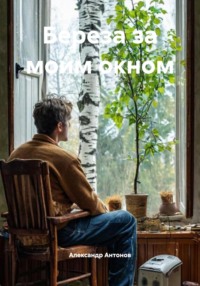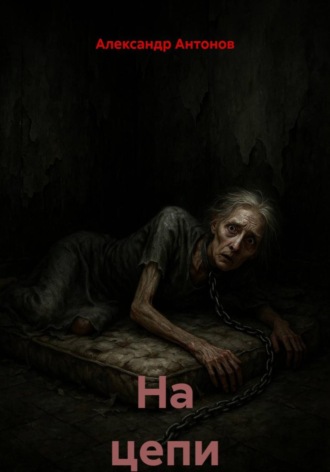
Полная версия
На цепи

Александр Антонов
На цепи
Глава 1. Проверка
Дорога в ноябре всегда звучит одинаково: редкий щелчок камня по днищу, гул шипованной резины и дребезг того, что в бардачке забыли закрепить. Мир за стеклом – серый, мокрый, без лишних контуров: лесополоса, канава, снова лес, чёрные стволы, как мокрые спички. Где-то сбоку тянется линия электропередач, и кажется, что она ведёт не к людям, а к их отсутствию.
Алина держала папку на коленях, как будто это могло согреть. Папка была из плотного пластика, на корешке маркером: «Семья К.» и номер дела. Внутри – привычный гербарий бумаги: акты обследований, объяснения, предупреждения, характеристика из школы на старшего, выписка из поликлиники на младшего, распечатка из полиции о вызовах. И ещё – две страницы, из-за которых они сейчас тряслись по этой дороге: поручение на внеплановый выезд и короткая приписка ручкой начальницы: «СРОЧНО. Поступил сигнал. Проверить условия проживания. Присутствие ПДН и участкового обязательно».
«Сигнал» – слово удобное. Оно ни к чему не обязывает вслух, пока не приезжаешь и не видишь, чем пахнет правда.
Водитель служебной «Лады» – старший лейтенант Серов, участковый, человек с лицом, будто его вырезали из тех же ноябрьских сумерек. Он говорил мало, но когда говорил – не повышал голос, как не повышают голос те, кто слишком часто слышит крик.
Сзади сидела Лена из отдела по делам несовершеннолетних – ПДН. Лена щёлкала ручкой и листала смартфон, но не с интересом, а механически, как перебирают чётки: новостная лента, сообщения, снова лента. На выезд она всегда брала термос с крепким кофе и пакет с печеньем – не потому что голодна, а потому что внутри надо чем-то занять руки.
– Далеко ещё? – спросила Алина, хотя знала ответ: «ещё минут сорок» в этих местах означает «ещё сколько получится».
Серов не сразу ответил, глядя на дорогу.
– Если мост не размыло, доедем. Если размыло – пешком пойдём. Там километра два, не больше.
Лена хмыкнула:
– Пешком, говоришь… В сапогах? По жиже? У меня форма.
Алина промолчала. Она не любила разговоров про форму. Ей казалось, что в этой работе форма – не ткань и не погоны, а выражение лица, которое ты надеваешь перед дверью. Если ошибёшься – и всё, либо сорвёшься на злость, либо уйдёшь в сочувствие, а оба варианта потом стоят слишком дорого.
Телефон Алины вибрировал в кармане, но она не вытаскивала – знала: или начальница уточняет «где вы», или кто-то из коллег пишет: «держись». От таких слов становилось только хуже, как от «не бойся» перед темнотой.
Они свернули с асфальта на грунтовку. Машина сразу изменила характер: стала меньше слушаться руля и больше – земли. Грунтовка была разбита так, будто ее не ремонтировали десятилетиями, а только иногда подсыпали сверху щебень, чтобы у людей не было права сказать «совсем невозможно». По краям стояли кусты, обвисшие мокрыми нитками, и редкие покосившиеся заборы – не столько граница, сколько память о границе.
Деревня возникла неожиданно: несколько домов, печные трубы, тонкая струйка дыма в сыром воздухе. Всё выглядело так, будто кто-то здесь продолжает жить по инерции – не потому что хочет, а потому что не умеет иначе.
Серов сбросил скорость.
– Вон тот, с зелёной крышей. Там.
Дом стоял чуть в стороне от дороги, за низким, кое-где провалившимся забором. На воротах болталась цепочка с замком, но цепочка была не натянута – просто висела, как украшение. У калитки – грязный коврик, который когда-то был резиновым, а теперь стал частью земли. Окна – мутные, с занавесками, которые в дневном свете казались серыми.
Алина почувствовала, как внутри поднимается привычное напряжение – сдавленное, бессловесное. То самое, что всегда приходит за минуту до того, как ты нажмёшь на звонок, постучишь или просто скажешь: «Здравствуйте».
– У нас по документам – многодетные, – напомнила Лена. – И… неблагополучные.
– Неблагополучные – это не диагноз, – автоматически ответила Алина. Сама не любила, когда так говорят, будто семье поставили штамп на лоб.
Лена пожала плечами:
– Это в бумагах так. И вызовы были. Соседи жаловались.
Серов заглушил двигатель. На мгновение стало так тихо, что слышно было, как где-то далеко работает трактор – низко, глухо, будто кто-то ворочает землю в яме. В этой тишине деревня казалась не местом, а отдельным временем.
Они вышли. Воздух был сырой, пахнул мокрыми листьями, дымом и чем-то кислым – то ли гниющей травой, то ли прошлогодним сеном. Под ногами хлюпало.
Алина поправила воротник куртки, взяла папку, проверила в кармане удостоверение. Лена – значок, чтобы был виден. Серов – просто пошёл первым, как всегда.
– Добрый день! – громко сказал он, подходя к калитке. – Полиция! Откройте, пожалуйста!
Сначала – ничего. Потом в доме где-то стукнуло: дверь шкафа, или табурет, или кто-то споткнулся. Через секунду в окне мелькнула тень, занавеска дрогнула.
Лена тихо сказала:
– Началось.
Алина почувствовала укол раздражения на эту фразу, но промолчала. Она знала, что Лена не циничная. Просто так проще: назвать всё «началось» – и не думать о том, что это чья-то жизнь.
Серов снова постучал, уже по воротам – не кулаком, а ладонью: звучнее.
– Откройте! Идёт проверка условий проживания. Опека и ПДН. Не усложняйте.
Замок щёлкнул не сразу. Сначала в воротах зашуршала цепочка, потом замок, потом калитка открылась на ладонь. В проёме показалась женщина лет сорока – лицо опухшее, волосы собраны кое-как, взгляд быстрый, как у человека, который привык оценивать опасность по мелочам. На ней была тонкая кофта с катышками и спортивные штаны. В доме, видимо, тепло, а на улицу она вышла без верхней одежды.
– Чё? – спросила она. – Чё надо?
– Полиция, – спокойно повторил Серов. – И соцслужбы. Поступил сигнал. Мы должны осмотреть условия проживания детей. И уточнить по взрослым.
Женщина прищурилась:
– Какие дети? Дети дома. У них всё нормально. Вы чего опять?
Алина шагнула ближе, показывая удостоверение.
– Здравствуйте. Я – Алина, социальная служба. С нами инспектор ПДН. Нам нужно пройти, посмотреть условия, поговорить. Это стандартно.
Слово «стандартно» прозвучало фальшиво, как всегда. Тут не бывает стандартно. Тут бывает только привычно.
Женщина посмотрела на удостоверение так, будто читала не фамилию, а приговор. Потом бросила взгляд на соседний дом – будто проверяла, кто смотрит.
– Да проходите. А то потом напишите, что мы не пустили.
Она распахнула калитку шире и отступила на шаг. Это был жест не гостеприимства, а капитуляции: «входите, всё равно войдёте».
Во дворе было грязно. Не «немного не убрано», а именно грязно: разбросанные пластиковые бутылки, металлическая миска для собаки, перевёрнутая, куча угля под навесом, старый детский самокат с одним колесом. Дрова навалены кое-как, часть мокрая. В углу – ржавая ванна, в которой, кажется, кто-то пытался держать воду летом.
Крыльцо скрипнуло. Дверь в дом была обита дерматином с трещинами, внизу – дырка, из которой тянуло холодом, как из чужого подвала.
Внутри сразу ударило запахом: смесь дыма, старого жира, влажной одежды и чего-то сладковато-кислого, как у прокисшего молока. Алина всегда ловила этот запах на выездах и ненавидела за то, что он прилепляется к волосам, к коже, к памяти.
В прихожей – тесно. На полу – линолеум, местами вздувшийся. Под линолеумом чувствовались доски: настил, который пружинит, когда наступаешь. Обувь – кучей, разномастная: резиновые сапоги, детские кроссовки, мужские ботинки в грязи. В углу – ведро с водой, сверху тряпка.
Из комнаты донёсся детский голос:
– Мам, кто там?
– Никто. Проверка, – громко ответила женщина, не снимая глаз с Серова. – Опять.
Появился мальчик лет десяти, худой, с напряжённым лицом, как у взрослого. Он посмотрел на чужих людей и сразу отступил назад, будто его толкнули.
Лена мягко сказала:
– Привет. Мы просто поговорим. Как тебя зовут?
Мальчик не ответил. Глотнул воздух и исчез за дверным проёмом.
– Дети где? – спросил Серов.
– В комнате. – Женщина показала рукой куда-то вглубь дома. – А вы чё, по всем углам лазить будете?
– По тем, где живут дети, – коротко сказал Серов.
Алина заметила, что женщина держит руку на дверной ручке кухни – не пускает, просто держит. Это был жест контроля: здесь я хозяйка, я решаю, куда вам смотреть.
– Скажите, пожалуйста, кто ещё проживает? – спросила Алина. – По документам вы, дети, мужчина… и ещё пожилая женщина.
Женщина моргнула слишком быстро.
– Какая пожилая? – сказала она. – Нету тут никого.
Лена подняла голову. Серов тоже.
– В документах указана ваша мать, – спокойно уточнила Алина, хотя сердце внутри уже сделало маленький шаг в сторону тревоги. – 1960 года… нет, простите, по сведениям – 65 лет.
Женщина резко повернулась к кухне, будто ей внезапно стало там важно что-то поправить.
– Да лежит она. Болеет. Старая уже. Ей плохо.
Серов шагнул вперёд:
– Мы должны её увидеть.
– Зачем? – женщина наконец подняла голос. – Она вам что, мешает? Лежит себе и лежит!
В этот момент из глубины дома послышался другой звук – не голос. Сухой металлический щелчок, будто цепь из железа чуть сдвинули по полу, или по дереву, или по чему-то твёрдому. Звук был короткий, почти незаметный, но он почему-то ударил Алину сильнее, чем крик.
Она посмотрела на женщину. Та тоже услышала. И на долю секунды её лицо стало пустым – как у человека, у которого из рук выдернули единственный аргумент.
– Мы пройдём, – сказал Серов. Не громко. Просто так, что спорить стало бессмысленно.
Женщина задышала чаще.
– Там… там грязно. Я не успела… – пробормотала она, и это «не успела» прозвучало не про уборку. Оно прозвучало, как будто она не успела спрятать.
Алина пошла следом за Серовым. Настил под ногами пружинил. Линолеум шуршал. Коридор был узкий, стены – с обоями, которые где-то отслаивались. Пахло сильнее.
Они миновали комнату, откуда выглядывали дети – двое, может трое, как маленькие животные из темноты: любопытство, страх, привычка. Один держал в руках телефон без чехла, экран треснутый. В другом углу сидела девочка и молча крутила прядь волос, пока пальцы не побелели.
– Сидите, – сказала им женщина, но голос у неё дрогнул.
Серов остановился у двери, которая была закрыта не плотно, а на что-то вроде крючка. Крючок был грубо прикручен к косяку, и от этого стало ещё хуже: крючок – не замок, он не «для безопасности». Он для того, чтобы кто-то не вышел.
– Открывайте, – сказал Серов.
Женщина не шевельнулась.
Лена тихо выдохнула. Алина почувствовала, как у неё стали холодными кончики пальцев.
Серов сам снял крючок. Дверь открылась не сразу – заедала, будто её давно не открывали полностью. Он толкнул сильнее.
Комната была маленькая и тёмная. Окно занавешено плотной тканью. На полу – тот же настил, но поверх него лежал кусок линолеума, прикрывающий что-то неровное. В углу – кровать без нормального белья: одеяло комком, подушка плоская. И ещё – цепь. Не как в кино, где цепь блестит. Обычная цепь, тяжёлая, рабочая, такая, какую держат у сарая или на воротах. Она уходила от кровати вниз.
Алина не сразу увидела человека – сначала увидела форму под одеялом, слишком неподвижную, слишком маленькую для взрослого. Потом – руку. Кость, кожа, ногти. И только потом – лицо, впавшее, серое, с закрытыми глазами.
Она не закричала и не охнула. Внутри просто что-то выключилось, как свет в подъезде, когда перегорела лампа.
Серов сказал одно слово, негромко, но так, что оно прозвучало как команда всему миру:
– Скорую.
Лена уже доставала телефон.
Женщина в коридоре начала говорить быстро, сбиваясь:
– Она сама… она… она уходила! Она падала! Она… вы не понимаете!..
Алина стояла у порога и смотрела на цепь. Она видела такие вещи в бумагах – «ограничение свободы», «ненадлежащий уход», «истощение». В бумагах это всегда выглядело как нейтральная смерть языка. Здесь язык умер первым.
И где-то на самом краю сознания, как предвестник второй реальности, у неё мелькнула мысль: через пару часов об этом уже будут писать. Не «женщина в комнате». А «триллер», «шок», «деревня», «на цепи». И под постом начнутся те самые слова: про опеку, про соседей, про «расстрелять», про «сами виноваты». И это станет ещё одним слоем – поверх линолеума, поверх настила, поверх человека.
Но пока – только комната, цепь и дыхание, которого почти не слышно.
Алина сделала шаг внутрь. Тихо, как в больнице. И наклонилась к женщине, пытаясь поймать хоть один признак жизни – не как специалист, а как человек, который вдруг оказался слишком близко к тому, что нельзя развидеть.
Глава 2. Настил
Скорая в этих местах приезжает не “быстро”, а “как получится”.
Лена уже говорила в трубку короткими, ровными фразами – так, как учат говорить, когда рядом дети и слабый человек, и когда каждое лишнее слово превращается в панику.
– Женщина, примерно шестьдесят пять. Истощение. Ограничена в движении… да, цепью. Сознание неясное… Адрес такой-то, деревня такая-то, дом с зелёной крышей, подъезд по грунтовке, мост… да, мост цел, но размыто. Едем?
Она повторила адрес дважды, потом ещё раз – ориентир “у старой бани” (какой бани, Алина даже не видела) и “после магазина, которого нет”. Здесь ориентиры живут дольше, чем сами места: магазин закрывают, вывеска остаётся, и по ней ещё десять лет объясняют дорогу.
Серов уже шагнул в комнату. Он не торопился, не делал резких движений: он был не из тех, кто тянет одеяло и повышает голос – он видел, что любое лишнее движение здесь может кончиться не скандалом, а остановкой дыхания.
Алина подошла ближе. Женщина под одеялом была почти невесома, но не как “легкая”, а как пустая: кожа натянута на костях, лицо провалилось, рот приоткрыт. На скуле – тень старой гематомы или просто отпечаток подушки, уже не отличить. Запах – тяжёлый, кислый. Он был не запахом грязи, а запахом тела, которое долго болело без ухода.
Цепь тянулась от края кровати вниз, к полу. Не декоративная, не “чтобы напугать” – рабочая, хозяйственная. Её закрепили не к мебели, а к железному кольцу, которое уходило в настил. Настил был старый: доски пружинили, где-то глухо проседали. Поверх настила – линолеум, как крышка на яме. На линолеуме – потёртый след, дуга, по которой цепь, видимо, скользила туда-сюда. След был таким будничным, что от него становилось хуже: цепь здесь не была “случайностью”, она была частью быта, как ведро у двери.
– Она дышит, – сказал Серов.
Он не спрашивал – утверждал, чтобы удержать спокойствие у всех. Но Алина видела: грудь под одеялом поднималась едва-едва, как будто человеку тоже не хочется тратить лишнего.
Лена встала в дверях, не заходя.
– Дети, – сказала она, не громко, но твёрдо. – Уведите детей в другую комнату. Сейчас.
Женщина-хозяйка будто собралась спорить, но не нашла слов. Она оглянулась в коридор – там уже маячили лица: мальчик, девочка, ещё кто-то маленький, почти прилипший к стене. Они смотрели не на цепь, не на Алину, а на Серова: взрослый в форме – это фигура силы, с ней всё ясно. Соцработница – странное существо: вроде “помогает”, но после неё всегда бумаги.
– Идите сюда, – Лена поманила детей рукой, как зовут кота, чтобы не спугнуть. – Давайте, спокойно. У вас всё нормально. Просто выйдите.
Мальчик с треснутым телефоном шагнул первым, но не к Лене – к двери, на свободу, как будто комната с цепью – это зараза. Девочка вцепилась в рукав матери.
– Мам… – шепнула она.
– Идите! – мать рявкнула слишком резко, и в этом рявке было больше страха, чем злости.
Дети ушли. Коридор остался тихим, но тишина не стала легче: просто стало меньше свидетелей.
Алина присела рядом с кроватью. Она не трогала женщину, пока не поняла, куда можно и нельзя, но наклонилась так, чтобы слышать дыхание и видеть рот.
– Как вас зовут? – спросила она.
Серов бросил на неё взгляд: “зачем”. Но Алина знала зачем. Имя – это первая перегородка против превращения человека в “случай”. Пока есть имя, ты не можешь говорить о нём как о вещи.
Женщина не ответила. Глаза не открылись. Но губы шевельнулись, и из них вылетел звук, похожий на выдох:
– Не…
– Не что? – тихо спросила Алина.
Женщина снова шевельнула губами. Получилось:
– Не надо.
Алина выпрямилась. “Не надо” могло значить всё что угодно: не надо трогать, не надо увозить, не надо их, не надо меня. Слова у таких людей часто становятся короткими не от скупости, а от того, что всё лишнее решили за них.
В коридоре хозяйка снова заговорила – быстро, много:
– Я вам говорю, вы не понимаете! Она… она уходит! Она падает! Она… Она может детей напугать! Она… Она больная! Вы уедете, а мне тут жить! Мне!
Серов вышел из комнаты на полшага, чтобы разговор не накрывал лежащую.
– Где мужчина? – спросил он.
– Какой мужчина? – хозяйка прикинулась, но голос выдал: она поняла, о ком речь.
– По документам с вами проживает мужчина сорока девяти лет. Где он?
– В сарае, – выдавила она. – Дрова…
Серов кивнул, не отпуская её взглядом.
– Позовите.
– Он… он сейчас…
– Позовите, – повторил Серов.
Женщина пошла, тяжело ступая, как будто ноги вдруг стали чужими.
Алина снова посмотрела на цепь. Она заметила, что карабин на конце – новый. Не старый, не ржавый. Значит, цепь не “лежала с девяностых”, её обслуживали: меняли, ставили, проверяли.
Она вспомнила, как на совещаниях говорят “надо усилить профилактику” и “проводить разъяснительную работу”. В кабинете это звучит как умное дыхание. Здесь профилактика – это приехать вовремя. А если не приехали – уже поздно, остаётся разбирать, кто виноват, и искать слова для отчёта.
Серов подошёл ближе, наклонился и осторожно посмотрел, куда именно цепь закреплена.
– Кольцо в полу, – сказал он скорее себе. – Вкручено.
– Можно… – Алина остановилась на слове. Она хотела сказать “можно снять?”, но не была уверена, что цепь можно снять без риска. Вдруг закреплено так, что любое движение причинит боль.
Серов понял её мысль.
– Ждём скорую. Пусть снимут аккуратно. Она может… – он не договорил. “Может умереть” здесь звучало слишком прямо, слишком безнадёжно.
Алина достала из кармана маленькую бутылку воды, но вспомнила: пить таким людям нельзя давать просто так. Можно захлебнуться. Можно спровоцировать рвоту. Лишний риск. Она убрала воду обратно, чувствуя злость на собственную беспомощность: приехала “на проверку условий проживания”, а стоишь рядом с человеком, которому уже нужны не условия, а спасение.
Снаружи раздались шаги. Тяжёлые, уверенные – не детские. Дверь в коридоре хлопнула, и в проёме появился мужчина. Высокий, с сутулыми плечами, лицо красное от холода или от выпитого. На нём была ватная куртка, на рукаве – жирное пятно. Запах от него прошёл волной: дым, пот, алкоголь, сырой лес.
– Чё за цирк? – сказал он, увидев Серова. – О, участковый. Привет.
Он пытался говорить легко, как с приятелями. В этих местах многие думают, что форма – это “свой человек”, у которого можно попросить и с которым можно “решить”.
Серов не ответил на приветствие.
– Привет, – мужчина пожал плечами, будто сам себе. – Чё, опять? Мы никого не трогаем. Дети, вон, живые. Ходят. В школу… когда ходят.
Он усмехнулся.
– Где женщина, которую вы здесь удерживаете? – спросил Серов.
Мужчина моргнул, как будто слова не сразу дошли.
– Удерживаю? – переспросил он. – Ты чё несёшь? Она лежит. Больная она. Кто её удерживает?
– Удерживают. На цепи, – сказал Серов. Без интонации.
Улыбка с лица мужчины слезла не сразу, а медленно, как краска на влажной стене.
– Да какая цепь… – он отвёл взгляд. – Это… это чтобы не упала. Она падает. Встаёт ночью, бродит. Ты сам попробуй, когда такая… Мы же не звери.
Слова “мы не звери” прозвучали жалко. Не потому что он сомневался – потому что он заранее говорил это себе.
Лена, стоявшая в конце коридора, подошла ближе.
– Дети знают, что она на цепи? – спросила она.
Мужчина фыркнул:
– Дети? Дети всё знают. Дети в деревне вообще умные.
И снова попытался пошутить, но шутка не сложилась.
Алина смотрела на его руки. На пальцах – грязь, под ногтями – земля. Такие руки могут и дрова колоть, и человека держать. Разница – не в силе, а в решении.
С улицы послышался далёкий гул. Сначала его можно было принять за трактор, но звук приближался, становился резче, и через минуту во двор вкатил белый автомобиль с красным крестом. На неровностях его трясло так, будто он сейчас развалится.
– Приехали, – сказал Серов.
Они все на секунду будто выдохнули. Даже мужчина перестал играть в уверенность. Помощь теперь была не словами, а железом и людьми.
Два фельдшера вошли в дом быстро, но без суеты. Уставшие лица, прямые спины. Один – мужчина лет пятидесяти с короткой щетиной, другой – женщина моложе, с резинками на рукавах, чтобы не мешали. Они не задавали лишних вопросов, потому что выезд в деревню – это всегда лотерея: пока спрашиваешь, человек может уйти.
– Где? – коротко спросил фельдшер.
Серов показал.
Фельдшер вошёл в комнату, остановился на пороге на долю секунды – увидел цепь. Глаза у него не расширились, он не охнул. Он просто стал жёстче в движениях, как будто внутри включился иной режим.
– Свет есть? – спросила фельдшерша.
– Лампа… – хозяйка махнула рукой.
Фельдшерша щёлкнула выключателем. Лампочка замигала и загорелась тускло-жёлтым светом. Комната стала ещё хуже: при свете виднее не ужас, а быт. Виднее грязные простыни, виднее пятна на досках, виднее, что эта “комната для больной” – не уход, а склад человека.
Фельдшерша надела перчатки и осторожно приподняла край одеяла, послушала дыхание, потрогала запястье, посмотрела зрачки.
– Давление… – сказала она тихо.
Фельдшер уже доставал приборы. Он не говорил “кошмар” или “изверги”. Он говорил цифры, потому что цифры – это единственный способ удержать себя.
– Тонкая, как ребёнок, – пробормотала фельдшерша, но тут же оборвала себя: – Ладно. Носилки.
Фельдшер посмотрел на цепь, осмотрел карабин.
– Где ключ? – спросил он.
– Какой ключ? – хозяйка сразу стала глухой.
– Карабин на замке? Или просто застёжка?
– Там… – мужчина кивнул в сторону пола. – Там так…
Фельдшер присел, потрогал крепление. Кольцо было на болтах, цепь – через замок. Замок маленький, но прочный. Такой покупают, чтобы сарай не открыли.
– Ключ, – повторил фельдшер. Теперь это было не “просим”, а “быстро”.
Хозяйка, бледная, как бумага, сунулась в карман и вытащила связку ключей. Они зазвенели так громко, будто в доме наконец появилась музыка – мерзкая, металлическая.
Фельдшер выбрал ключ, попробовал – не тот. Второй – не тот. Третий – подошёл. Замок щёлкнул.
Этот щелчок был страшнее, чем шум машины на дороге. Потому что он означал: это не “чтобы не упала”. Это “чтобы не ушла”.
Фельдшер аккуратно снял цепь с кольца, откатил в сторону. Цепь упала на линолеум и легла, как рука. На полу под ней остался тёмный след.
– Готовьте носилки, – сказал он. – Давайте осторожно. Позвонки, кожа… всё.
Они работали втроём: фельдшер, фельдшерша и Алина – Алина сама шагнула, не спрашивая разрешения. Она держала край простыни, поддерживала плечо. Женщина на кровати была тёплой и одновременно холодной, как будто тепло уже не было её собственным, а держалось на остатках.
– Тише… – прошептала женщина, и это было первое слово, похожее на просьбу, а не на отказ.
– Тише, – повторила Алина, сама себе.
Её перенесли на носилки. Одеяло сползло, и стало видно тело: тонкие руки, синяки, пролежни на боках. Никакого “кровавого кино” – просто тихая разруха, которую можно получить без удара, только временем и равнодушием.
В коридоре дети стояли у стены. Они смотрели на носилки широко раскрытыми глазами. Мальчик с телефоном сделал шаг – как будто хотел подойти – и тут же отступил, будто ему стыдно за своё желание быть ближе.
– Не снимай, – сказала ему Лена тихо, даже без угрозы. – Просто убери.
Мальчик посмотрел на неё и опустил телефон. Не потому что послушался, а потому что понял: это не тот случай, когда “про такое показывают”.
Женщину вынесли на улицу. Воздух ударил в лицо, и она вдруг открыла глаза на секунду – мутные, без фокуса. Она посмотрела в небо, где не было ни солнца, ни ясности.
– Дом… – выдохнула она.
Алина наклонилась ближе:
– Вас в больницу. Вам помогут.
Женщина с трудом шевельнула губами.
– Не… – и снова: – не надо…
Фельдшерша повернулась к Алине и сказала так, чтобы услышала только она: