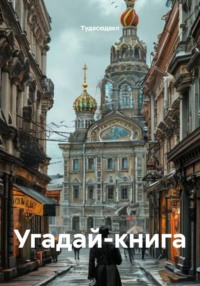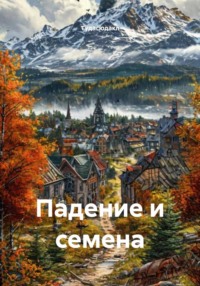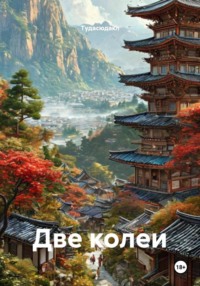Полная версия
Минус пятьдесят лет
Но кто был недоволен и воодушевлён одновременно? Прежде всего, исследователи по различным направлениям. Например, психиатры начали требовать скорее предоставить им высокоэффективные препараты, которые должны были быть созданы только в 1950-е – но и не знали пока, как ими распорядиться одновременно. Фармакологи отбивались от подобных запросов, говоря: «нас ещё с вакцинами осаждают, с анестетиками и прочим, дойдёт и до вас очередь».
Целая прорва открытий и концепций, произошедших с 1915 по 1964 годы, в готовом виде свалилась на физиков.
Химики пробовали изготавливать полимеры, мучались с попытками наладить газовую хроматографию на имеющейся базе.
Биологи начали эксперименты с чистыми культурами и с «куриным» культивированием вирусов.
Срочно была отправлена экспедиция за Кумранскими свитками, а археологи многих стран начали всеми правдами и неправдами, даже не дожидаясь окончания войны, пробираться с образцами в появившиеся страны, чтобы сделать углеродную датировку.
Но то же самое происходило и в ряде других наук и практических сфер. Например, «досрочно» появился бихевиоризм, который начал «наступление» на психоанализ… и оба направления, как и другие, пробовали как-то состыковать с гештальтом и культурно-исторической теорией развития психики… или же упирать на эти направления в чистом виде.
Альфред Вегенер получил заслуженное признание при жизни.
Уже в конце августа – начале сентября 1914 года началась ажиотажная скупка участков земли на Аравийском полуострове. Причём некоторых скупщиков похищали и даже убивали агенты центральных держав… но энтузиазма это не сбавляло.
В Якутии разгорелась «алмазная лихорадка» – сотни и тысячи искателей удачи бродили повсюду и рыли ямы.
Металлурги начали биться над порошковыми сплавами и получением дюралюминия.
Но… не все же задумывались над какими-то глобальными и серьёзными проблемами, спросят, наверное? Кто-то думал о том, что использовать для себя… и как это что-то использовать для выгоды?
Естественно. И в самых что ни есть повседневных вопросах происходило немало нового. Так, властям решительно всех перенесённых государств уже осенью пришлось решительно бороться с нелегальным вывозом нейлона, лавсана и полиэстера – находилось немало тех, кто готов был отдать чуть ли не целые состояния за них. Заметно меньше, но всё же прилично, стоили на чёрном рынке электрогитары.
Вслед за любителями экстраординарно одеться и издать непривычные звуки в путь засобирались даже некоторые фабриканты. Они уже старались закупить конкретные технологии – включая такие, на первый взгляд, не самые серьёзные, как изготовление газированных напитков, соков и шоколадных батончиков.
Генри Форд буквально лез на стенку. Греческие тук-туки MEBEA, начавшие поступать чуть позже Fiat 500 и 600, плюс Zastava 750 (югославская версия Fiat 600), Alfa Romeo, Lancia моментально переключили внимание публики. Хорошо ещё для владельца завода в Дирборне было то, что такие поставки из-за военного времени неизбежно были ограниченными…
Однако же он понимал, что это ненадолго, максимум на несколько лет. Понимали и другие – поэтому автопромышленники США – и не только их – поэтому форсированно заключались сделки о переходе на новые платформы, на лицензионное производство той или иной «новоевропейской» модели. Если на фордовских предприятиях спешно переориентировались на выпуск MEBEA и Zastava 750, то Дженерал Моторс сделали ставку на оригинальные Фиаты, а Кадиллак – на Феррари и Ламборгини. Принципиальный тезис был общий: «начать с малого, создать базу, подтянуться и идти дальше».
А вот кому пришлось основательно потрудиться, так это британским, французским, бельгийским и голландским морякам и портовым работникам. Не отставали от них железнодорожники в тех же Нидерландах, Бельгии, Великобритании и Франции. В срочном порядке всё хоть сколько-нибудь ценное старались вывезти подальше от немцев. И ценного оказалось даже больше, чем можно было себе представить.
Например, казалось бы, что важного в середине 1960-х – в задрюченном до крайнего состояния металлообрабатывающем станке, «рождённом» в годы великой депрессии? А вот инженеры в Бремене или Гамбурге с этим бы охотно поспорили. А ведь было не только промышленное производство. Лаборатории с их оборудованием, архивы технологической документации, спецслужб и полиции. Электростанции и электроподстанции. Грузовики, локомотивы, вагоны.
Плюс, конечно, специалисты во множестве областей.
Да, подавляющее большинство самолётов и вертолётов из этих двух стран также постарались перебазировать в Британию – на спешно подготовленные или выбранные площадки, своим ходом, конечно. То же самое старались сделать и с речными и морскими судами – всё равно ни летать, ни ездить по морю в ближайшую пару лет было особо некуда, некому и незачем.
Глава 6. Информационные копья скрещены
Пытались ли немцы что-то сделать для противодействия эвакуации? Да, конечно. Но… мало что могли. Только буквально два или три раза их самолёты смогли появиться над портами. Скинули лётчики пару ручных гранат куда придётся и назад. Эффект от такого… сами понимаете. Подумали в Берлине – и решили – лучше не терять пилотов и машины в самоубийственных миссиях с нулевым результатом.
Однако это не значит, что там – передумали вовсе «добраться до чего-нибудь вкусного». Наоборот, агентурную разведку во Франции и Англии во многом перенацелили как раз на такие эвакуируемые вещи и специалистов. Немцы усиливали натиск, стремясь поскорее продвинуться вперёд, вглубь Бельгии и Нидерландов. Военнослужащих старались поощрять за всякое отбитое имущество, которое согласно составленному немецкими инженерами списку признавалось особо ценным.
Правда, к 20 августа командование отдало приказ остановить наступление и перейти к обороне. Не потому что цели были достигнуты. Просто по той причине, что стало ясно – продвинуться быстро, скажем, до середины сентября – начала октября выйти к морю – не получится. Так что и во Францию не ворваться «с чёрного хода», и самые ценные трофеи, конечно, уже будут далеко.
Как известно, в реальной истории 4 октября 1914 года появился «Манифест 93» – обращение ряда деятелей науки и культуры Германии с изложением удобной правительству точки зрения. В этот раз обращение появилось раньше, 22 августа – и было составлено иначе. Только первые два абзаца остались такими же.
Мы, представители немецкой науки и искусства, заявляем перед всем культурным миром протест против лжи и клеветы, которыми наши враги стараются загрязнить правое дело Германии в навязанной ей тяжкой борьбе за существование. События опровергли распространяемые слухи о выдуманных немецких поражениях. Тем усерднее сейчас работают над искажениями и выдумками. Против них поднимаем мы наш громкий голос. Да будет он вестником истины.
Неправда, что Германия повинна в этой войне. Её не желал ни народ, ни правительство, ни кайзер. С немецкой стороны было сделано все, что только можно было сделать, чтобы её предотвратить. Мир имеет к тому документальные доказательства. Достаточно часто Вильгельм II за 26 лет своего правления проявлял себя как блюститель всеобщего мира, очень часто это отмечали сами враги наши. Да, этот самый кайзер, которого они теперь осмеливаются представлять каким-то Аттилой, в течение десятилетий подвергался их же насмешкам за своё непоколебимое миролюбие. И только когда давно подстерегавшие на границах враждебные силы с трех сторон накинулись на наш народ, – только тогда встал он, как один.
Неправда, что мы нагло нарушили нейтралитет Бельгии. Доказано, что Франция и Англия сговорились об этом нарушении. И то, что мы столкнулись с «иной» Бельгией, не имеет значения. Если бы в Брюсселе действительно готовы были к миру, то – объявили бы сразу, что не поддерживают заключённых своими предшественниками договоров с Лондоном и Парижем, и что готовы не препятствовать военно в нашей борьбе с Францией, просто пропустив войска.
Неправда, что наши солдаты идут порабощать и грабить. Мы стреляем только в тех, кто сознательно встаёт на нашем пути. Мы берём только то, что непреложно нужно для самой борьбы. Против нас встал враг коварный и искусный, оснащённый невиданными доселе вооружениями.
Распространяемые нашими врагами легенды о каком-то мнимом массовом истреблении народов в грядущих десятилетиях не имеют под собой никаких оснований.
А между тем, прямо сейчас на востоке земля наполняется кровью женщин и детей, убиваемых русскими ордами, а на западе аэропланы и бронированные машины рвут на куски наших воинов. Выступать защитниками европейской цивилизации меньше всего имеют право те, которые объединились с русскими и югославами и дают всему миру позорное зрелище натравливания монголов и негров на белую расу. Сами Югославия, Румыния и Болгария в их нынешнем состоянии есть продукт русской экспансии. То, что она производилась не монархическим, а республиканским, и даже «социалистическим» правительством, всего лишь показывает, что её корни гораздо глубже любых политических градаций. Нейтралитет попавших к нам скандинавских стран ещё можно понять, но нейтралитет Италии – не поддаётся никакому разумному объяснению. Это не стремление к миру, это предательство.
Неправда, что война против нашего так называемого милитаризма не есть также война против нашей культуры, как лицемерно утверждают наши враги. Без немецкого милитаризма немецкая культура была бы давным-давно уничтожена в самом зачатке и неотделима от него. Это осознаёт каждый из 70 миллионов наших соотечественников.
Мы будем вести эту борьбу до конца, как культурный народ, которому завещание Гёте, Бетховена, Канта так же свято, как свой очаг и свой надел.
В том порукой наше имя и наша честь!
Обращение итальянских деятелей науки, культуры и искусства.
Недавно нашу страну обвинили в предательстве. Всего лишь за то, что она не стала помощницей в нападении на другие государства. Однако… кто же взялся нас – и заодно все остальные нации мира – судить?
Это взялись делать немецкие интеллектуалы. Не побоимся этого слова – ума и заслуг у них действительно хватает. Но никакие достижения не дают права быть абсолютным авторитетом. Посмотрим только на факты.
Нам говорят: Бельгия сама виновата в том, что подвернулась на пути. Точно так же любой грабитель мог бы сказать: вот если бы не вышла мне навстречу та жертва, да не будь у неё при себе денег…
Нам говорят: Брюссель не порвал договоров и не объявил о намерении таком. Но разве дело любой страны указывать другой, с кем заключать договоры – и не просто указывать дипломатически и даже в прессе, а силой принуждать к желаемому поведению, и даже не просто к желаемому поведению, а ради своей выгоды исключительно?
Нам говорят: перемещённые во времени страны имеют разные вооружения, которые мешают немцам и австрийцам их легко бить. Но, допустим, нашёлся бы кто-то, кто пришёл к Бисмарку и сказал: давай, посылай свою армию под Седан, но только без твоих хороших пушек, а то нечестно?
Претензии насчёт каких-то выдумок заведомо неадекватны. Во всех переместившихся странах есть миллионы людей, прекрасно знающих, что это такое – немецкое обращение с другими народами в 1930-х и 1940-х годах. Много тех, кто знает это на себе. Надеемся, что немецким интеллектуалам хватит если не совести, то хоть ума не сказать в глаза этим людям свои тезисы. Что они не станут говорить человеку, что цифры, выгравированные у него на руке – галлюцинация. Что погибшие родные и близкие – ложь. Что его память, как восстанавливались из руин города и деревни – фантазия.
Гёте, Бетховен и Кант, многие другие их соотечественники были и будут достоянием каждого жителя земного шара. Но они завещали – не беспринципное покорение других наций силой оружия, а нечто принципиально иное. И, прочти это обращение 93 немецких профессоров нынешних, не стали бы громко говорить. А просто произнесли бы: «Вы – не наши, и наше дело – не ваше».
На земном шаре достаточно возможностей, чтобы прокормить, одеть и снабдить жильём каждого – хоть берлинского профессора, хоть жителя тропической Африки. Кто говорит, что это не так, всего лишь маскирует жажду грабить.
Глава 7. На пути к новому оружию
Но если философы, публицисты и общественные деятели дискутировали, если политики спешно обдумывали новые речи и программные заявления, то это не значит, что все остальные только лишь следовали им и внимали. Происходило в это время множество других вещей, которые тоже заслуживают интереса. Рассмотрим их по порядку.
Так, на фронтах к концу сентября 1914 года наступила после первичной горячки – сравнительно спокойная ситуация. Именно в этот момент, осознав, что изначальные планы и подходы окончательно рухнули, генералы во всех воюющих странах вновь обратились к тематической литературе – ища в ней, конечно, не готового ответа, как поступить, а подсказок и указаний на свои ошибки. Тем более что к тому времени количество доступных источников выросло – и, естественно, в каждой стране их уже старательно проштудировали военные теоретики и преподаватели военных академий.
И ответ на вопрос – как преодолеть позиционный тупик – лежал на поверхности. Если в годы второй мировой зарождалась атомная гонка, если через какое-то время после неё началась гонка космическая, то в данной ситуации – неизбежной стала гонка танковая. Военачальники и правительства требовали от инженеров и промышленности: Нам Нужна Броня. Было ясно, что кто создаст бронетанковые силы раньше, больше и более качественные, та сторона и выиграет. Естественно, преимущество в этом плане было у Антанты – ей в готовом виде достались и образцы бронетехники – преимущественно от голландской и бельгийской армий, и танкисты, и промышленность, и инженеры какие-никакие.
Но и в Германии с Австрией не собирались так просто уступать, хотя в их распоряжении были только смутные сведения и пара трофейных лёгких бронемашин. Тем более что уже на этапе разработки технических заданий везде – в Англии и России, Франции и Германии, Австро-Венгрии стало понятно – не просто не удастся в готовом виде скопировать технику середины 1960-х – придётся практически с нуля проходить весь путь, только немного ускоряя его за счёт имеющихся сведений.
Сплавов необходимых – нет, и освоение их выпуска – дело небыстрое.
Требуется совершенно иная культура производства, станки и аппараты. Которые ещё только предстоит сконструировать, изготовить, затем – обучить множество людей их использованию.
Такие же проблемы не только с бронёй и корпусом. С двигателями, рациями, орудиями, снарядами (и взрывчаткой для них), с выпуском топлива и смазочных материалов.
Потом – когда бронетехника начнёт поступать в войска – нужно обучить солдат и командиров, выработать тактику и стратегию, сопряжение с другими родами войск, логистику. Причём, опять же, взять готовое, хоть из 60-х, хоть из опыта массового применения танков в годы второй мировой не получится. Война другая, условия иные.
Однако кое-что немецкие и австрийские войска всё же начали вводить новое. Начиная с конца сентября на передовой всё чаще появлялись скопированные трофейные ручные гранаты. В октябре 1914 года зафиксировали первые применения ручных пулемётов и миномётов, явно воспроизводивших также трофейные образцы. Хотя полноценных танков и даже бронемашин сделать было пока нельзя, в ход шли эрзацы – грузовики, обитые листами железа, иногда – с импровизированными пулемётными башнями. Также немцы и австрийцы понемногу начали переодевать свои армии в камуфляж «Дождь», образцы которого разведка смогла добыть в Болгарии. Это решение приняли по двум причинам: сугубо патриотической – прообраз-то как раз немецкий был, и практической – воспроизведение сочли максимально простым.
Появление новой вражеской униформы было ожидаемо – поэтому в английской, французской и российской армиях его просто зафиксировали. Тем более что в странах Антанты тоже начали обновлять амуницию. За основу также взяли наиболее простой вариант – однотонный оливковый цвет без всяких узоров. Подобным образом выглядело новое обмундирование большинства сухопутных частей. Только в отдельных подразделениях, прежде всего у разведчиков, появлялись более сложные образцы. Тут бы наиболее лёгкое освоить, причём в больших масштабах – речь-то шла уже о миллионных армиях…
Глава 8. Дела секретные и дела фронтовые
Надо ещё добавить, что особых успехов в этот период австрийская и немецкая разведка не добивалась. Наоборот, провал следовал за провалом. Очень сложно, знаете ли, работать, когда не только методы, но и конкретные имена, подробности отдельных операций, легенд, используемые для прикрытия учреждения и организации, перечислены уже в ряде изданий. Такие препятствия стали возникать даже в Российской империи, где «в прошлый раз» агентам было раздолье. Попытки шпионажа против перемещённых стран – что из «западного» блока, что из «восточного» также успеха не приносили. Потому что контрразведчики обладали не только подавляющим технологическим превосходством, но и в плане приёмов работы ушли далеко вперёд.
Пришлось в Берлине и Вене вынужденно взять время на размышление и на выработку принципиально новых методов…
Однако до белого каления разведывательные ведомства центральных держав доводило другое обстоятельство – в дополнение к агентурным провалам они столкнулись с невозможностью вскрыть ряд используемых противниками теперь шифров. После некоторого периода паники, впрочем, был предложен ряд мероприятий:
усиленная работа через нейтральные страны (перечень строго ограничен – только «местные» – Испания, Португалия, Швеция, Швейцария);
полное (если возможно) или радикальное обновление личного состава разведки – даже ценой вынужденного неиспользования опытных агентов;
ещё более активное, чем прежде, использование подкупа и шантажа;
налаживание интенсивного сотрудничества с преступниками во всех переместившихся странах (в первую очередь – с итальянской мафией, как наиболее сильной, опасной и разветвлённой);
переход от «работы по площадям» (с массовой засылкой агентов с однотипными легендами типа нищих, крестьян-поденщиков и т. д.) к внедрению ограниченного числа сотрудников с тщательно проработанными образами, включая «мнимых перебежчиков»;
и, естественно, максимальный сбор из доступных источников всей информации о методах и средствах, о технике и организации противостоящих разведок и контрразведок.
Использование авиации и бронетехники, артиллерии и флота, которые достались в «готовом» виде, было предметом дискуссии. Недолгой, впрочем. Как бельгийские и голландские, югославские, румынские, албанские и болгарские офицеры, так и руководители войск в Англии и Франции пришли к однозначному выводу – это ценный ресурс, который лучше приберечь для периода решающих крупных битв. Использовать его во время затишья, наступившего на западном фронте во второй половине сентября 1914 года, было неразумно. Любая потеря боевого самолёта, орудия или танка – особенно если произошла не просто утрата, а захват, хотя бы в виде обломков – давала центральным державам и технологические, и пропагандистские выгоды. Разумеется, из этого правила были и исключения – так, разведывательная авиация использовалась непрерывно.
«Упругость истории» проявлялась не только в том плане, что никому из сторон невозможно было пока использовать полученные научно-технические сведения и развернуть выпуск новых вооружений с нуля. Точно так же, как и в реальной первой мировой войне, на фронтах начались «качели»: одни продвинутся, другие откатятся, потом наоборот. Точно так же вслед за западным фронтом центральные державы активизировались на восточном – с тем же переменным успехом, даже появившаяся к концу 1914 года линия фронта была плюс-минус та же самая, что и в нашей реальности.
Ничего удивительного – соотношение сил, география и прочие неизменные факторы по-прежнему «рулили» везде. Даже винтовочный и снарядный кризис в российской армии – развернулся точно так же.
Но постепенно накапливались изменения другого рода. Так, Турция не решилась вступить в войну, и поэтому не приходилось Антанте вести с ней борьбу. Греческие, болгарские, югославские и румынские дипломаты донесли до Стамбула чёткую позицию – хотя раньше они находились в разных международных лагерях, здесь и сейчас будут действовать совместно. И то, что они могут реально «вломить», в Османской империи понимали чётко. Поэтому сохраняли нейтралитет – несмотря на все призывы и требования из Берлина и Вены…
Глава 9. Удар по себе же
С другой стороны, если ход войны оставался неизменным, то характер её ведения менялся. Несмотря на сохранявшиеся объективные различия и разногласия между перемещёнными странами из «западного» и «восточного» блоков, включая нейтралов – Грецию, Норвегию, Данию и Италию, они сумели продавить в руководстве Антанты решение – не применять химическое оружие. Аргумент был неоспоримым, с рядом примеров – нигде и никогда оно попросту не сумело обеспечить тактический успех, не говоря уже о стратегическом.
А вот центральные державы в попытках переломить ситуацию действовали гораздо более отчаянно. Они как раз начали применять отравляющие газы. Причём – и на западном, и на восточном фронте – в январе 1915 года был применён не слезоточивый газ, и даже не хлор. А спешно синтезированный по полученным отрывочным данным зарин.
Эффект оказался совсем не тот, на который рассчитывали берлинские стратеги. И не только потому, что, несмотря на впечатляющую отравляющую мощь, кардинальных прорывов обороны добиться не удалось. Практически сразу начались масштабные воздушные удары возмездия. Вылеты совершали не только перебазировавшиеся в Англию и Францию бельгийские и голландские ВВС, не только самолёты из «Балканского союза» – так теперь неформально называли Румынию, Болгарию и Югославию. К ним присоединились также норвежские и греческие самолёты. Применялись и тактические ракеты – несмотря на ограниченное их количество, слабую воспроизводимость и неизбежное изучение остатков. Целями стали штабы и высшие военные учреждения, склады боеприпасов, пункты постоянной дислокации войск в дальних тылах.
В Дании и в Италии участвовать в этой акции не стали, но – демонстративно сняли запрет на вступление добровольцев в армии Антанты.
Передовица Deutsche Tageszeitung (консервативное издание, основная аудитория – крупные промышленники и отчасти финансовые круги), 31 января 1915 года. Поэтому написано респектабельно, сухо, без грубостей, но в каждом слове звенит металл.
Фатерланд в большой опасности
На нас произведено ещё более решительное нападение. Как теперь уже подтверждено – и никто этого скрывать не думает, в том числе в официальных заявлениях – в последних нескольких рейдах участвовали летающие машины не только уже воюющих против нас изначально югославской, болгарской, румынской, бельгийской и нидерландской армий, но также и посланные из Норвегии и Греции. Причём по хронологии событий получается так, что наши дипломаты ещё только успели получить ноты через Швецию, даже не успев ещё передать их в Берлин по телеграфу, когда вражеские пилоты уже шли по лётному полю к своим аэропланам.
Те, кто принимал решения об этих ударах, вскоре заявили, что они – наказание за использование отравляющего оружия на фронте. Иными словами, нам отказывают в праве применять те вооружения, которые наши генералы считают необходимыми. От чего дальше нас призовут отказаться? От пушек? От пулемётов? Или потребуют затопить флот? А может быть, чтобы понравиться врагам, нам нужно самим пустить их на всю нашу землю без единого выстрела?
Любое войско всегда изыскивало способы действия, которые могут обеспечить победу – или хотя бы мощный отпор. Армия Германии имеет на это точно такие же права, как и любая другая. Даже большие – потому что против превосходящего врага не зазорно применять самые решительные средства.
Урок усвоен – цена нейтралитету перемещённых государств ничтожна. Они сами себя свергают с морального пьедестала – свергают своими беспринципными поступками. И пусть знает весь мир – даже уступая в вооружениях, немцы не дадут навязать себе чужие правила просто так. Тот, кто вознамерится это сделать, вскоре осознает, в какую опасную игру он вступил.
Глава 10. Спустя пять месяцев
1 февраля 1915 года. Петербург. Несколько зарисовок из жизни города – в свете «новых веяний»… и не только.
Если пройти по улицам, и посмотреть, то… как будто всё то же самое, что и в прошлом феврале. Те же дома. Тот же снег. Примерно та же одежда на прохожих. Да, есть признаки, по которым внимательный наблюдатель может определить – что идёт война: это и выкрики газетчиков, и сами публикации, и объявления с призывом вкладываться в военный заём, и несколько больше, чем в мирной жизни, искалеченных встречается. Но – как мы знаем, дело этим не ограничивается.