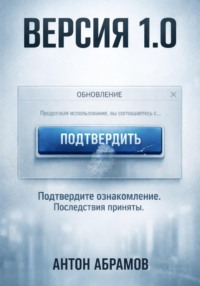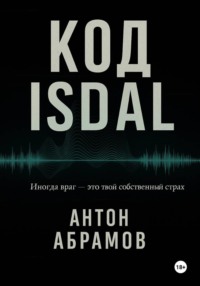Полная версия
Последняя строка
Первая страница легко поддалась. Бумага крепко держала её в кардовой тетиве, но переворачивалась без хруста, как будто служила не людям, а собственному ритму. Форзац сохранил след от старой влаги, тёмное пятно вытянулось по диагонали к нижнему правому углу, словно сюда когда‑то положили кусок льда, который медленно таял. На титульном листе витиеватый почерк, чуткий к поворотам пера, вёл строку ровно. Было указано, в каком году книгу завели, кто ведал домом, какая улица и какой номер. Надписи в разных местах отличались, и Анна сразу чувствовала пульс времени, когда новый управляющий начинал писать иначе, чем прежний. Она узнала смешения: дореволюционная орфография, где‑то советская – рукой с «е» без серьёзной точки, потом уверенный канцелярит пятидесятых с широким хвостом буквы «ж». На обороте титула были вклеены страницы для записи допусков, пломбировок, актов, вся эта изнаночная сторона бумажной жизни домов. Анна внимала ей терпеливо, но практически без участия, потому что понимала, как такие страницы редко что рассказывают по‑настоящему. Главное всегда с обратной стороны, там, где тёмные столбцы с фамилиями тянутся, как деревья по склону.
Она перевела лист. Табельный разворот оказался, как и положено, предусмотрительным. Колонки печатными типами: фамилия, имя, отчество, семья, род занятий, дата вселения, дата выбытия, основание. Верхняя линия украшена тонкой рамкой в одну нитку. Печать типографии, где когда‑то напечатали эти формы, оставила лёгкий экспериментальный узор, словно при пробе краски мастер слишком сильно надавил. Анна улыбнулась. Она из тех людей, кто умеет улыбаться странице и не испытывает неловкости от этого движения.
Ей нравилось прослеживать судьбу пальца печатника, как другим нравится следить за трассой самолёта. Она аккуратно положила ладони по краям, чтобы полотно книги лежало ровнее. Узлы нитей выглянули из нижнего корешка, как заросли после стрижки. Анна склонилась ближе и заметила, что на сгибе, вдоль нити, есть почти неразличимый блеск. Этот блеск полагался железно-галловым чернилам, которые всегда вели себя как живое существо и через годы начинали подниматься на поверхность дыханием, а не тяготением.
Она листала медленно. Сначала дореволюционные страницы. Они пахли сушёной травой и чем‑то ещё, похожим на сушеные яблоки. Люди, записанные на них, казались легче. То были лица, которые улыбались с предсмертных фотографий из чуланов, тогда ещё никто не думал про трудовые умения пользоваться фотоаппаратом. Анна задерживалась на отдельных фамилиях, на одинаковых именах через поколение. Усадьба жила, как живут большие дома, принимая и отпуская, подобно морю, принимающему и отпускающему листок, нечаянно упавший на его поверхность. Она видела времена, когда в графе «род занятий» почти у всех стояло «служащий», потом «рабочий», потом самые разные слова, и каждое слова тянуло за собой мир, в котором оно родилось. Учитель. Сторож. Машинистка. Наладчик. Уборщица. Инженер. Вдова.
Анна на мгновение провела взглядом по этому слову и поняла, что снова потеряла равновесие. Она редко позволяла себе соскальзывать внутрь себя настолько. Жизнь научила её осторожно обходить глубокие ямы. Она закрыла ладонью угол страницы, подождала, пока выровняется дыхание, и перевернула лист.
Порывы ветра делали окна похожими на барабаны, на тусклые стёкла легли полосы от дождя, как ручейки ртути. Несколько секунд шелестел в коридоре дождевик Нины, потом тихо хлопнула входная дверь. Наверху воздух остался один и, кажется, стал немного гуще. Анна заметила, что лампа стала давать более тёплый свет, чем полчаса назад. Она подвинула её ближе к себе. Свет от латуни вылепил края букв на переплёте, всё остальное потонуло в спокойной темноте.
Анна читала. Её внимание было без промаха. Она легко понимала, где рука уверенного управляющего, а где ученик заполнял за него ведомость; она слышала по линиям, когда человек спешил, когда отвлекался, когда остановился, чтобы обмакнуть перо. Две страницы подряд вели себя необычно. На полях виднелись бледные пятна, как будто туда положили, а потом сняли кусок влажной ткани. По краю дорожек протянулась соль, тонкая, как сахарная пудра. Анна провела по ней ногтем и убедилась, что это не пыль, а именно соль. Она подумала, что книгу держали в помещении, где из щели в полу всегда тянет легким соленым ветром, как тянет из подвалов полузаброшенных домов, которые стоят у воды и знают о сквозняках намного больше, чем люди на первом этаже.
С улицы донеслось низкое урчание двигателя, снег ещё не начинался, но уже в воздухе присутствовала готовность. Машина проехала очень медленно, и Анна представила, что весь городской воздух тянется за ней, как тугая шаль, длинным краем по асфальту. Она вернулась к книге. На этой странице есть одна строка, которую рука пропустила или не смогла дописать. Она зависла на половине буквы «А», начинающей фамилию, и от неё в сторону по бумаге тянулась лёгкая светлая венка. Анна по привычке достала линейку. Она не исправляла чужие ошибки и никогда не дописывала вместо других, но ей нравилось измерять то, что не требует измерения, и в этом измерении находить покой.
Она отметила карандашом едва видимый номер штампа в углу и поднялась, чтобы немного пройтись по залу. Книгу оставила открытой. Её шаги приглушало ковровое покрытие, вдоль стен тянулись полки с картотекой, каждая ячейка имела своё кроткое имя на бумажной полоске. Анна остановилась у окна. Внизу по набережной шла молодая пара, их зонтик опрокидывал воду с такой лёгкостью, что казалось, они и есть ветер, который выгуливает туман. Чуть дальше свет фонаря ударил в баннер на заборе возле усадьбы. Замысловатые буквы обещали «Набережную XXI века». Шрифты были гладкими, как оштукатуренные стены, и очень уверенными в себе. Анна сузила глаза. Ей не полагалось злиться, и она давно отучилась от этого, но взгляд на этот баннер всегда доставлял близкое к боли ощущение, как если бы на твоих глазах линчевали знакомое бутылочное стекло, чтобы получить модный бокал.
Она вернулась за стол. На странице, где её взгляд задержался минуту назад, появилась тонкая тень в том месте, где прервалась буква. Тень походила на мокрое дыхание, которое наклонилось к бумаге и оставило о себе знак. Анна приблизилась. Она знала, как ведут себя старые чернила. Они поднимаются из глубины, когда влага возвращает им часть того, что у них забрали при высыхании. Иногда это незначительно. Иногда выходит пятно. Иногда буква словно перестаёт быть частью слова и забывает, зачем придумана. Но в этот раз тень была организованной. Она не расползалась. Она медленно темнела и становилась линией.
Анна взяла лупу и поднесла к странице. Раковина металла в руке оказалась неожиданно тяжёлой. В стекле предстала пористая поверхность бумаги, тонкие дорожки волокон, и между ними, как вода в канавке, лилась чернильная тропа. Линия шла уверенно, как если бы кто‑то вёл перо изнутри. Буква «А» доросла до полной формы, за ней начала набираться следующая. Анна ощутила, что страх, который ты сдерживаешь давно, может родиться в любом месте, даже здесь. Она вдохнула, поставила лупу на стол и просто смотрела. Буквы выплывали на свет. Между ними сохранялись маленькие, крайне аккуратные интервалы. Почерк был не современный. В нём было то, что умеют линии после долгой практики, когда рука думает быстрее, чем сознание.
Фамилия ясно возникла первой, потому что так устроены эти книги: они притягивают к себе поступающие слова по правилам, а не по прихоти. Потом родилось имя, потом отчество. Анна почувствовала, как к горлу подступает жёсткий комок. Она запомнила чужие имена, раньше чем успела прочесть новое, поэтому это имя прозвучало в ней дважды. Сначала как звук, будто его произнесли рядом, но очень тихо. Потом как слово, которое неожиданно совпадает с мыслью.
Ткачёв Андрей Васильевич.
Она отодвинулась, даже не замечая, что пальцы оставили на поле мягкие короткие клинышки. Рука хотела поднести к губам кружку с чаем, но чай остыл и не годился ни для чего. Нижняя строка настырно притягивала к себе взгляд. Там, где у этой книги всегда пишут «Дата выбытия», появилась нежная начальная тень, как первый глубокий вдох у человека, который долго молчал.
Анна схватила лупу снова. Смуглый овал стекла втиснул в себя грань шрифта. Линии на цифрах будоражили перо, как предмет, который когда‑то был тёплым. Этой строке хватило минуты, чтобы стать невозвратной. На бумаге прояснилась дата. А потом рядом проявилось время. Не общее, а точное. Не промежуток, а конкретный момент.
01:37.
Лампа продолжала светить, но в комнате будто стало темнее. Анна знала, что это не лампа виновата. Это глаза взяли на себя больше, чем им полагалось. В горле пересохло. Она проглотила снова. Ничего не изменилось. Она медленно встала, сняла с вешалки рабочую кофту и накинула её на плечи, хотя жар был низкий и ровный. Она посмотрела на часы. До 01:37 оставалось не так уж много времени. Первая абсурдная мысль пришла привычной дорогой. Набрать номер Никиты Курбатова, потому что никто больше на таком расстоянии не скажет понятных слов. Никита был человеком, которому можно было не объяснять все сразу. Он приберёт лишнее и вернёт тебе то, что ты в состоянии удержать.
Телефон лежал в верхнем ящике стола. Старый проводной стоял на столике слева, он нравился Анне тем, что телефонная линия была похожа на нитку, по которой приходят ответы, и напоминала детство, когда они соединяли ниткой два стаканчика и переговаривались из разных комнат. Она потянулась к аппарату, не отрывая взгляда от книги. Её правая ладонь нащупала холодную пластмассу и привычную тяжесть трубки. В коридоре щёлкнула лампа. Нина, вероятно, уходила, проверив всё как хороший привратник. Анна дёрнула плечом. Она не любила слово «привратник». Оно несло в себе вину за тех, кого не пустили. Она повернула диск. Пусть пальцы сами вспоминают путь.
Гудки пошли тугие и упругие, будто колышут водой лист жести. В эту минуту под окнами стукнул металл о металл. Звук распластался по туману и прилёг к земле. Анна сжала трубку сильнее.
– Курбатов, – сказал голос, когда гудки перестали. В голосе была расправа над сном. Человек позволил себе одну брешь и теперь чинил её по ходу.
Анна услышала, как ухнуло у неё внутри и как из этой ямы выпрыгнуло первое слово.
– Никита. Мне нужна ваша внимательность. У меня в книге возникла запись. Не внесённая рукой. Появившаяся.
Он молчал всего секунду, которую легко перепутать с ухмылкой. Он не ухмылялся. Он не был тем, кто смеётся над самим фактом вопроса. Он был тем, кто просит стать аккуратнее, когда слышит слово «появившаяся».
– Вы одна? – спросил он.
– Да. Нина ушла. Книга на столе. «Домовая Грачевских». Строка на странице проявилась на моих глазах. Имя Ткачёв Андрей Васильевич. Внизу «Дата выбытия». Там начертаны сегодняшние число и время. Час тридцать семь.
Он не начал задавать вопросы про химические реакции, про влажность, про соляные пары. Он оставил их на потом.
– Адрес, – сказал он.
Анна продиктовала. Слова шли на автомате, будто она отдала себя другой части, которая не боится и умеет работать с форс‑мажорами. Закончив, она положила трубку и только теперь ощутила, что пальцы немного дрожат. Она не любила, когда руки говорят за неё. Анна прижала ладони к столешнице. Дерево ответило спокойным теплом.
За окном кто‑то проходил и что‑то говорил по телефону. Дальше у самой воды загудел корабельный гудок не громко, как вежливый старик. В помещении было слышно капание из батареи, тонкое и редкое, как хронометраж у режиссёра, которому полностью доверяешь. Анна села, опускаясь медленно, и наклонила голову к книге. Её тень закрыла часть страницы. Она отодвинулась, чтобы буквы дышали.
Она знала, что книги иногда ведут себя как живые. Она знала, как память города умеет записывать себя чужими руками. Но она никогда не видела, как память работает без рук. Она думала о том, что любой дом имеет свой голос. Этот голос редко слышат. Его узнают по скрипу лестниц и по перекличке труб, по тому, как окна вздыхают, когда их открываешь. Но голос дома может писаться и в книгах. Кто‑то когда‑то придумал, где этому голосу жить. Кто‑то вложил ему в руки чернила. Анна долго и тщательно занималась чужими голосами. Она научилась быть тем, кто не мешает. Она знала, что долг архивариуса выглядит просто: отодвинуть своё эго и дать говорить бумаге. Но в эту минуту ей показалось, что бумага не хочет разговаривать с ней. Бумага говорит сама с собой.
Внизу звякнула дверь подъезда. По коридору прошёл слабый сквозняк, и края страниц во всех книгах на столе вздрогнули одновременно, как если бы кто‑то лёгкими пальцами касался нотного стана. Анна потянулась к сейфу. Она не собиралась прятать книгу окончательно, но у неё есть ритуал, который перекладывает ответственность на порядок. Она отнесла книгу к сейфу, положила внутрь на нижнюю полку, потом сразу же вынула. Этот жест означал признание того, что этот предмет официален. Любой предмет с историей должен хоть на секунду побывать там, где история спит.
Она вернулась и снова положила «домовую» на стол. Внизу, под колонкой «Дата выбытия», оживал следующий ряд цифр. Её глаза, привыкшие к ясности, снова отказались верить, но наблюдали аккуратно. Она проверила на полке старую бутылочку с реактивом. На ней стоял неприметный ярлычок. Она взяла чистую кисточку, едва коснулась краёв поля. Никакого следа, никаких признаков того, что вне этой комнаты существует химия, которая, возможно, могла бы объяснить это. Отставила всё на место.
Она вспомнила бабушкин совет про соль и порог. В этом городе у всех есть бабушка, которая когда‑то говорила про пороги. Называют ли это мифом, привычкой, сантиментом, не имеет значения. Порог – это живое. С него всё начинается. И дом тоже начинается с порога. Анна подумала, что в доме Грачевских, почти перед самым входом, наверняка кто‑то когда‑то сыпал соль. Не для вкуса, а чтобы дом смирился с людьми.
Туман за окном прибавил плотности. Анна слышала, как он тяжелеет на подоконнике, словно вязаная шаль. Далеко, ближе к порту, загудело низко и долгим тоном, как если бы в воду опустили большой бронзовый колокол и заставили его звучать через толщу. Звук был непривычным и знакомым одновременно. В этот момент внутри стало как-то проще. Когда слышишь колокол, перестаёшь слышать плохие точки в себе.
Она поставила телефон ближе к книге и раскрыла записную книжку. Записала линию: фамилия, имя, отчество, дата, время. Карандаш оставил тонкую полутень. Теперь это услышанное было и написанным. Из‑за двери в зал вошёл холодок, дверь никто не трогал, но воздух решил обследовать помещение внимательнее.
Анна проверила печати на сейфе у стены. На каждой кружилось имя Нины, она всегда ставила печать с лёгким сдвигом влево. Многие не замечали. Анна замечала. Это ничья вина, всего лишь почерк. Ей нравилось, что мир, когда присматриваешься, всегда кажется чуть сбоку. Секунды тянулись более густыми нитями. Она подумала, нужно ли сейчас звонить кому‑то ещё, например, охране стройплощадки. Потом решила, что одного человека достаточно, чтобы в нужный момент не возникла суета. Курбатов умеет поставить нужный вопрос в нужную минуту. Он успеет.
Она опустила голову к книге и на секунду прикрыла глаза. Тишина в зале была не тишиной, а длинной звуковой рекой. Её можно было слушать бесконечно. В ней прятались слова, которые город не смог произнести громко. В ней скрывалась тень молитвы, ещё не сказанная, но готовая сорваться. Анна не любила молиться. Она умела благодарить. Это вещи не одинакового веса. Она встала и подошла к окну. На улице оставалась та же пара. Они убежали под навес и теперь что‑то говорили друг другу, скрывая лица. Свет падающих капель создавал вертикальные шифры, и казалось, будто всё, что люди скажут друг другу, с утра будет знать вода.
Она вернулась за стол в момент, когда тонкая линия у цифр перестала быть прозрачной. Возможно, у всего существует минута, когда прозрачность заканчивается. Анна слушала, как сердце медленными шагами добирается до горла. Она никогда не боялась собственных ощущений. Она предпочитала говорить себе правду, даже если она лишает покоя. Правду можно класть на полку рядом с книгами. Ложь занимает слишком много места.
Она погладила пальцем торец переплёта и почувствовала под ногтем слегка вздувшийся слой лака. Это напоминало кожу человека, в детстве она думала, что кожа книг живая. Теперь она знала, что бумага живее любых кож. Она поднесла лупу и смотрела. Ткачёв Андрей Васильевич. Страница номер такая‑то. Квартира четвертая. Эти детали не для бумажного любопытства. Они крепят к миру. Они делают из любого имени жизнь. Непривычно и своевольно. Анна вспомнила несколько Ткачёвых из своих графиков выдачи дел. Имена были одинаковыми, люди разные, рукописные черты никогда не повторяются. Ткачёв из школы поваров. Ткачёв из бывшего подшипникового. Ткачёв, который так внимательно обращался с книгами, как будто в них был спрятан шов, опасный для пальцев. Ткачёв, которого она не знала. Всегда есть тот, кого ты не знаешь.
Она посмотрела на часы. До 01:37 оставалось пять минут. Вряд ли что‑то можно сделать за пять минут в городе, где улицы не любят бег. Она подняла трубку снова, потом опустила на рычаг. Она не хотела быть человеком, который кричит в телефон «мы все погибнем». Она хотела звучать человеком, который говорит: «мы увидим, что происходит». Анна встала, подошла к двери и прислушалась к коридору. Он был пуст. Она закрыла дверь на ключ. Не для защиты. Для порядка. Потом вернулась и села напротив книги, слегка потянула ее к себе. Бумага вдруг стала холоднее. Это ощущение часто возникает за минуту до того, как лезвие воздуха решит изменить свою сторону.
Далеко в порту ответил колокол. Тон не был точным, как у оркестровых инструментов, но он держал ноту. Он раз в десять секунд объявлял о себе малыми ударами, как сердце, которому помогли вернуться к своему делу. Анна сидела и слушала. В какой‑то момент она улыбнулась. Ей пришла в голову простая мысль: сколько бы бумага ни умела, она всегда остаётся бумагой. Она не ходит по улице, она не вдыхает дым, она не выбирает подъезд. Её сила в том, что её читают. И её страх в том же.
Когда стрелка приблизилась к отметке, в коридоре раздались шаги. Одно движение каблука, ещё одно, слабый спуск, вздох замка. Кто‑то на первом этаже вышел во двор. Анна снова услышала дождь. Телефон под рукой зашелся мелкой дрожью, будто поперхнулся. Анна ожидала третьего гудка. Он не прозвенел. Она подняла трубку. В трубке было молчание.
Она поняла, что в эти секунды происходит в другом месте. В городе, где время считает себя частью рельефа, в минуты, когда никто не готов принимать решение, но оно всё равно принято. Она опустила трубку и закрыла глаза. Ей не хотелось видеть, что цифры на странице перестают быть тенью. Но когда она открыла страницу, всё было так же. Никакой новой линии. Никакой правки. Никаких следов, что кто‑то пришёл и поставил подпись. Только чернила. Только бумага. Только дата. Только время.
Она медленно провела ногтем по кромке левой страницы. Паутина волокон отозвалась знакомым сопротивлением. Вспомнился школьный тетрадный звук, который так полюбился детям, когда в конце урока учитель, уставший и добрый, разрешал им рисовать, а они выводили на полях свои неуместные кораблики. Анна улыбнулась своим корабликам. Её кораблику. Лет двадцать назад она нарисовала в тетради лодку, и та лодка привела её к берегу, который оказался не счастьем, а домом. Бывает и так, что это одно и то же.
Снизу донёсся голос вахтёра, он разговаривал с кем‑то, кто в этот час искал ночной путь в помещение, где никого обычно не ждут. Голос вахтёра был тёплым. Анна почувствовала, как от этого тепла полегчало. Она достала из кармана маленькую булавку, тонкую, с круглой головкой. У булавок в архиве есть свой смысл. Они держат вместе то, что временно нуждается в близости. Она наколола уголок листа булавкой и тут же вынула её. Кожу едва кольнула, но Анна всё равно улыбнулась – лёгкий жест, будто проверила, жива ли бумага. От прикосновения страница словно становилась спокойнее.
Она не заметила, как за окном начался дождь другого качества. Капли стали глухими, тяжёлыми, будто вода вспоминала своё происхождение. Где‑то далеко, может быть, на самом краю морской кромки, повторился удар, вновь похожий на низкий колокол в воде. Он пришёл и ушёл, и от него осталась дорожка тишины. Анна положила ладонь на страницу, погладила её, как гладят кошку, которая ещё не решила, быть ли сегодня ласковой. Она сидела так, пока сердце не догнало своё место.
В её голове уже развернулась ровная последовательность. Утром она окажется на месте, где баннер обещает «Набережную XXI века», хотя рядом ещё стоят те самые деревянные проёмы, в которых всегда пахнет свежей щепой, даже зимой. Там будет холодно. Там будет шумно. Там будут люди, которые умеют кричать в нужных местах, а иногда кричат и в ненужных. Там будет кто‑то с камерой. Там будет кто‑то, кто знает фамилию Ткачёв, но не знает, что его записали в домовой книге. Там станет ясно, почему бумаги иногда замирают ровно в тот момент, когда человеческий голос уже перестаёт что‑то объяснять.
Анна аккуратно закрыла книгу. Ей хотелось, чтобы в этот момент переплёт вдохнул вместе с ней. Она поставила том на край стола, чтобы он был ближе к руке. Она выключила лампу и оставила включённым один настенный светильник, тот, что делает тени мягкими, а помещение сразу начинает напоминать вечернюю кухню. Она пошла к окну и подняла защёлку. Окно не поддалось. Она нажала сильнее. Воздух вошёл коротким толчком. Капли вдруг ожили на подоконнике и заиграли. Город дышал туманом, как ребёнок, которому впервые разрешили говорить без надзора взрослых.
Она стояла и смотрела на забор с баннером. Над надписью с обещаниями легко колыхалась серая ткань тумана, и казалось, будто само море простёрло над будущей набережной тряпку, чтобы спрятать от людей свои движения. Анна вспомнила, как молодая Марьяна Грачевская говорила прошлой весной, что дом нужно перевезти, а не ломать, и как эта решительность обозлила мужчин, которые привыкли ездить рядом с управлением в пустых чёрных машинах. Тогда Анна не вмешалась. Она и сейчас не могла вмешиваться. Её работа не в том, чтобы драться. Её работа в том, чтобы сохранять.
Она закрыла окно. Струйка дождя капнула ей на ладонь, и это не показалось ей неприятным. Она стерла каплю бумажной салфеткой. Потом подошла к столу и снова включила лампу. Свет вернул значимость предметам. Книга лежала зажатым прямоугольником, готовая продолжить задержанный разговор. Анна взяла её, перелистнула несколько страниц и нашла глазами ту, где проявилась фамилия. На минуту ей захотелось неверного движения: взять ластик, стереть время. Но ластик в таких делах не участвует.
Она закрыла книгу вторично и беззвучно произнесла внутри себя имя. Слова распались на звуки и перестали быть опасными. Потом она тихо сказала вслух:
– Я услышала.
Анна не ожидала, что бумага ответит. Она знала, что ответ приходит в других формах. Не сейчас, не в эту минуту. Она села, вытащила из ящика маленький пакетик с солью и, удивляясь сама себе, насыпала щепотку на порог кабинета. Она не смеялась над собой. Она не оправдывала жест ничем. Она просто знала, что так легче стоять в дверях. Вернулась и положила пакетик обратно. Соль оставила на пальцах короткий терпкий след.
Телефон на столе коротко щёлкнул. На секундной стрелке мгновение стало плотнее. Анна взяла трубку. В голосе Никиты было то же равновесие, которое иногда даёт океан, когда он понимает, что ты боишься.
– Я приеду, – сказал он. – Скажите ещё раз имя.
Она повторила. Он спросил адрес. Она повторила и адрес, хотя была уверена, что он знает его наизусть. Он спросил время. Она ответила, что время уже названо, а это значит, оно идёт.
– Держитесь ближе к книге, – сказал он. – И будьте спокойны. Я подумал, что если это чья‑то игра с чернилами, мы поймём. Если нет, мы всё равно поймём. Вы меня слышите?
– Слышу.
Он повесил трубку первым. Анна смотрела, как рычаг возвращается на место. Потом она присела ближе к книге, положила ладонь в середину переплёта и почувствовала вибрацию, та была медленной, как звук колокола в воде. Ей показалось, что дом, где сидит архив, и усадьба на набережной связаны сейчас длинной мокрой нитью, и чья‑то невидимая рука держит эту нить, чтобы она не провисла. И если эту нить нельзя увидеть, то можно хотя бы помнить, где она проходит.
Она сидела так и не заметила, как дождь упёрся в ночь и перестал о себе говорить. В конце улицы послышался мягкий, почти скрытный стук, как если бы в темноте кто‑то задел ногой ведро. За окнами не появилось света мигалки, машины в это время ездили осторожно, раздумывая перед каждым поворотом. Анна поднялась и выключила лампу второй раз. Темнота легла на страницы как на берег, где сейчас отлив. Ей захотелось выйти в коридор и пройтись, но она осталась на месте. Книга была рядом, этого было достаточно, чтобы окончательно принять то, что уже нельзя изменить.