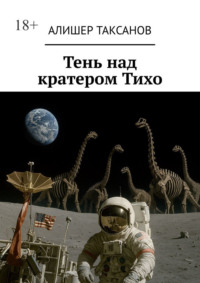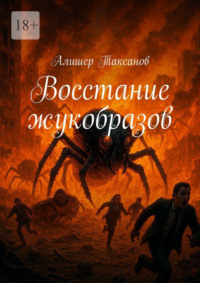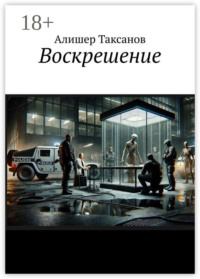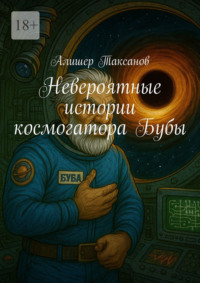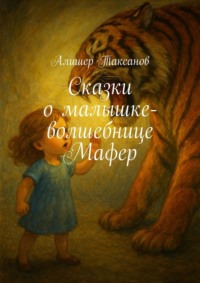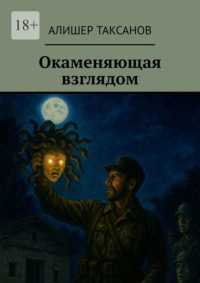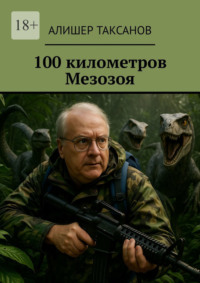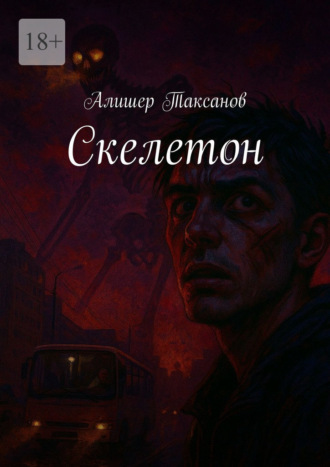
Полная версия
Скелетон

Скелетон
Алишер Таксанов
© Алишер Таксанов, 2025
ISBN 978-5-0068-6126-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ЧУДО-ПУЛЯ
(Фантастический рассказ)
Мой дед, Иван Дворников, мало рассказывал о войне. Он вообще избегал тем, связанных с фронтовой жизнью: не смотрел военные фильмы, не участвовал в официальных мероприятиях, не ходил на встречи фронтовиков. В школьные годы я не понимал, почему так, хотя деду действительно было чем гордиться: орден Славы II степени, орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» и другие награды говорили сами за себя. Мой отец тоже не любил говорить о прошлом деда, возможно, считал, что мне рано знать о чем-то из тех далёких дней. Но ведь Великая Отечественная война – это часть нашей общей истории, и любой мальчишка мечтает узнать больше о тех героических и страшных временах.
Лишь однажды дед сказал мне, когда я снова начал расспрашивать его о войне: «Та война была далеко не такой правильной и честной, как её показывают в фильмах и описывают в учебниках истории. Это была грязь, кровь, предательство, мародёрство, голод, бессилие и трусость. Командиры часто были безграмотными, а солдаты – пушечным мясом, – проговорил он с горечью. – Миллионы легли на полях сражений, миллионы попали в плен, а генералы сидели в штабах, ели колбасу и пили водку, получали ордена и звания, не подняв в атаку ни одного солдата. А за нашими полками стояли заградотряды. Были штрафбаты, были лагеря для тех, кто попадал в плен…». Тут он махнул рукой, словно отгоняя от себя тяжёлые воспоминания.
Я не знал, что такое «заградотряды» и «штрафбаты», и, естественно, спросил у деда.
– Заградотряды – это части НКВД, которые стреляли нам в спины, если мы пытались отступать, – пояснил он. – Когда перед тобой стоит выбор: умереть от пули своих же с угрозой, что твоих родных репрессируют, или от фашистской пули, но при этом стать героем и дать надежду своей семье на помощь государства, – выбираешь второе. Но война – это не марш по параду с развевающимися знамёнами. Это страшно: свист пуль, взрывы снарядов, гул танков, вой пикирующих бомбардировщиков, крики раненых, трупы на трупах, разорванные тела, руки, ноги… И не все это выдерживали. Некоторые бежали с поля боя, но их ждали пули заградотрядов.
– Свои стреляли по своим? – поразился я. Такое я не слышал от учителей, да и в фильмах такого не показывали. Даже ветераны, которые приходили к нам в школу, не упоминали ничего подобного.
– Да, было и такое, – подтвердил дед, – но об этом предпочитают не говорить. А штрафбаты… Это части для провинившихся, порой по пустякам, но эти люди не ценились ни командованием, ни другими солдатами. Их бросали в самые кровавые места, как расходный материал. Мясорубка. Те, кто выживал, могли надеяться на прощение и перевод в обычные полки и батальоны.
– Но об этом не говорят…
– И не скажут, – мрачно добавил дед. – Партия не любит такую историю. А те ветераны, которые ходят на ваши встречи, в большинстве своём либо служили в тылу, либо были при штабах, либо в НКВД. Им не о чем признаваться. А я… я служил в штрафбате. Был тяжело ранен, получил награды, но душевные раны не заживают до сих пор. Много несправедливости было в той войне…
Я был в шоке и долгое время не осмеливался снова заговорить с дедом о войне. Но спустя время любопытство взяло верх, и я вновь вернулся к этой теме.
– Дед, а можешь рассказать что-нибудь такое, чего не пишут в книгах?
Дед усмехнулся, надолго задумался, а затем тяжело вздохнул и произнёс:
– Да, было такое… Хотя…
Я почувствовал, что он скрывает какую-то тайну, и мне стало жутко интересно. Я стал теребить его за рукав:
– Ну, деда, расскажи, пожалуйста!
Дед наконец сдался. Он налил себе чаю, потом заговорил:
– Это было в сентябре 1942 года на Украине. Шли тяжелые бои, и мы несли огромные потери. Враг превосходил нас не только в технике и вооружении, но и в умении воевать. Наши танки вспыхивали, как спички, самолёты падали на землю, а пушки не пробивали их броню. Мы отступали с большими потерями. Признаюсь, наши командиры не были такими талантливыми, как показывают в кино. Солдаты погибали порой бессмысленно и бездарно. Тысячи трупов лежали на земле, но не было ни времени, ни сил, ни возможности даже похоронить их. Но мы учились воевать, и кое-где даже удавалось брать реванш. Я служил сапёром в 93-й стрелковой дивизии, был старшим сержантом. Шёл шестой месяц моей службы, и, кроме нескольких царапин да лёгкой контузии, я пока не пострадал. Возле одной деревни нам было приказано заминировать поле – ожидалось крупное танковое наступление…
Со мной было двое рядовых – молодой восемнадцатилетний Андрей Шмидтков из Ташкента и сорокалетний учитель географии из Харькова Никола Бойчук. Оба были неразговорчивыми, но разными по характеру. Андрей – невысокий, худой, со светлыми волосами и карими глазами, задумчивый и с проницательным взглядом – больше походил на старшеклассника. Он был призван всего месяц назад, прошёл краткие курсы и сразу оказался здесь, на передовой. Никола, напротив, был широкоплечим, с усами, добродушный на вид, больше молчал, пыхтя трубкой и кряхтя под нос. На его груди висела медаль «За отвагу», заслуженная за настоящий солдатский подвиг, и сапёрное дело он знал на отлично.
Было утро. Мы сидели в воронке в ста метрах от дороги, ведущей в деревню, и ждали, когда привезут противотанковые мины. Командир батальона приказал заминировать дорогу, а сам отвёл основные силы назад, чтобы соединиться с дивизией и прикрыть артиллерию. «Не покидайте место, пока не закончите работу!» – отрезал он.
Линия фронта – место неспокойное. Солнце пряталось за тучами, было холодно, а земля напоминала вязкую кашу – ноги постоянно увязали. Оружие приходилось регулярно чистить от грязи. Одежда наша давно не видела стирки, была вся в пятнах, изодрана пулями и прожжена в нескольких местах. Мозоли на ногах от сапог сделали каждый шаг мучительным. Окружающий пейзаж наводил ужас и уныние: бесчисленные воронки от авиабомб и снарядов, сгоревшая техника – и наша, и немецкая – разбросанная по полю. Трупы людей и лошадей, из которых остались лишь останки, растерзанные воронами днём и волками ночью. Воздух был пропитан гарью, запахом горящего металла, нечистот и гниения – это разлагались тела погибших. В километрах пяти шёл бой: гремели выстрелы из стрелкового оружия и миномётов, несколько раз над нами пронеслись пикирующие «Мессершмитты», сбрасывавшие бомбы на позиции. Было ясно, что и нам уготован подобный сценарий. Но перед нами стояли танки Гудериана, и наша задача заключалась в том, чтобы создать для них серьёзное препятствие. У нас было семь противотанковых мин с деревянным корпусом ЯМ-5, которые срабатывали при давлении свыше 120 килограммов. Естественно, этого было недостаточно, и обоз должен был доставить ещё около сорока мин.

Мы установили мины у въезда в деревню, но обоз так и не появился. Позже мы узнали, что его перехватил немецкий десант, и солдат, охранявших мины, расстреляли. Мы сидели и ждали, время от времени нервно поглядывая на часы.
К полудню стало ясно, что подмоги не будет, и надо было что-то предпринимать. Я беспокойно смотрел на свой ППШ, пять противотанковых гранат и ружья товарищей. Нет, с такими силами удержаться мы не сможем, надо отходить. Но приказ не выполнен, пусть даже не по нашей вине. Командиры порой не разбираются в таких тонкостях и могут сразу отдать под трибунал, а трибунал, как правило, один – расстрел. Всё шло к тому, что нам придётся принять бой и погибнуть здесь. Никола мрачно крутил свои усы и по-украински бормотал, что врага нужно давить, хотя у нас пустые руки, а в его глазах отражалась печаль. Шмидтков задумчиво оглядывался по сторонам.
– О чём думаешь, рядовой? – спросил я. – Ты голова свежая, молодая. Может, придумал что-то?
– Товарищ сержант, мне нужен ТТ, – ответил он, нервно грызя веточку берёзы.
– Эк, чего захотел! Пистолеты только у командиров и политруков, – усмехнулся я. – А что, с пистолетом против танков пойдёшь? У Гудериана танки крепкие, броня у них не пробьётся!
– А почему бы и нет? – дерзко ответил Андрей.
С полей потянуло запахом гнили и гари – запахи войны. Небо коптил дым от горящих где-то машин и танков. Линия фронта была усеяна телами советских и немецких солдат. Похоронные команды не успевали убирать и хоронить их, и многие так и оставались лежать под открытым небом надолго.
Я покачал головой:
– Горячий ты, Андрей. А фамилия у тебя не русская.
– Немецкая! Я из поволжских немцев! – сверкнул глазами Андрей. – Настоящая фамилия Шмидт, но отец русифицировал её, чтобы избежать лишних придирок и ненужного внимания.
– Лишнего внимания? – переспросил я.
– Иностранные фамилии всегда вызывали подозрения, – ответил Андрей с горечью, будто решив, что больше ему нечего скрывать. Возможно, он уже принял для себя, что живым из этой деревни не выйдет. – Более того, в двадцать четвёртом году мой отец учился в Хайдельберге, в университете, изучал физику и инженерное дело. Позже кое-кто интерпретировал это как…
Бойчук с удивлением посмотрел на него, но промолчал. Нам-то было всё равно, кто какой национальности, ведь мы все – советские солдаты и защищаем свою Родину. Однако слово «немец» действительно резало слух. А что учёбу в Германии могли расценить как подрывную деятельность или даже как доказательство вербовки Абвером – это в наши времена уже никого не удивляло. НКВД редко оставляло такие дела без внимания, и мало кто мог оспорить обвинения или доказать свою невиновность. Тройки работали, как конвейер, отправляя людей в ГУЛАГ или на расстрел.
– Так ты из Ташкента? – спросил я, пытаясь вспомнить биографические данные Андрея. Почему-то мне захотелось разговорить парня. Ведь действительно, воюешь рядом с человеком, а почти ничего о нём не знаешь. Хотя на войне жизнь коротка, и эти знания мало чем помогут. Просто хотелось скоротать время, пока не появились танки.
– Да, – кивнул он. – В тридцать пятом мы переехали в Ташкент. Отец был профессором физики, но позже его осудили на три года. После этого ему запретили преподавать в университете, и он устроился работать электриком. Я был его учеником.
– Учеником? – переспросил я.
– Да, он научил меня многому.
– А за что твоего батьку посадили? – спросил Никола, не отрывая взгляда от дороги. Его усы отсырели и уныло повисли. Левой рукой он протирал свою медаль, а правой сжимал винтовку.
Андрей замялся.
– Тогда сажали всех подряд по политическим статьям. Отец понимал, что это конец – как не сядешь, так смерть. Поэтому он инсценировал мелкое хищение социалистической собственности и сел за это. Три года где-то в Сибири. Так он спас себя и нас от настоящих репрессий.
Я покачал головой. Бойчук что-то пробурчал себе под нос, но я уловил в его голосе одобрение. Позже я узнал, что его родственники – крестьяне – или погибли в годы Голодомора, или были репрессированы. Он не слишком доверял власти, но никогда об этом открыто не говорил.
– Так зачем тебе ТТ? – спросил я.
– Хочу провести эксперимент…
Я удивился:
– Эксперимент? Здесь? Парень, это поле боя, а не лаборатория! Какой ещё эксперимент?
– Мне нужен ТТ, – упрямо повторил Шмидтков.
Я вздохнул:
– У меня нет пистолета. Но его можно найти… Здесь полно убитых бойцов, среди них есть офицеры, тела которых не успели убрать…
– Можно мне пойти? – понял это как разрешение Андрей.
– Ползи, только не высовывайся. Снайпер где-то может притаиться, – сказал я. Это не мародёрство, это реальность. Это необходимость.
Мы всё ещё слышали бой в нескольких километрах от нас. Было ясно, что враг вот-вот подойдёт к нашей деревне, а мы всё так же продолжали ждать обоз с минами.
Никола вдруг сказал:
– Может, и мне боеприпасы поискать?
Я поднял трофейный бинокль, снятый с убитого месяц назад немецкого танкиста, оглядел окрестности и сказал:
– Пока всё чисто. Но быстро и осторожно.
В деревне никого не осталось – жители, осознавая, чем закончится для них оккупация, ушли вместе с отступавшим батальоном. Андрей, припадая к земле, двинулся вперед. За ним, что-то говоря под нос, пошел Никола. Я видел их спины и головы в пилотках; каски они не надели – мешали, были тяжелыми, а от пули всё равно не спасали.
Пока они рыскали по полю в поисках боеприпасов, я мысленно прикидывал, как расположиться для броска гранат, чтобы подорвать хотя бы пару танков. Понятное дело, что в этом бою мы погибнем, но всё же хотелось забрать с собой в загробный мир побольше фрицев.
Уже начинало смеркаться, когда вернулись мои товарищи. Никола нашёл три автомата – один немецкий МП-38, два «ППШ», правда, у одного был сломан приклад, несколько дисков, много патронов в сумке и пять «лимонок» – осколочных гранат. Андрей приполз и вытряхнул на деревянный ящик из-под снарядов наган и немецкий пулемёт с полной лентой. Но он улыбался, извлекая из кармана грязный ТТ.
– Нашёл у майора, – сказал парень. – Пуля попала в лоб, разворотило весь череп.
– Это комбат Райков, – сказал я. – Они стояли тут раньше нас. Погиб смертью героя…
– Я почищу пистолет, потом заправлю своими патронами.
Я в недоумении посмотрел на него:
– Какими патронами?
– Вот этими, – Шмидтков достал из шинели семь патронов с пулями синего цвета.
– Что в них необычного, хлопец? – полюбопытствовал Бойчук. По его мнению, лишь пулемёт был грозной силой, а не офицерский пистолет.
– Эти пули сделал мой отец, – сказал Андрей. – В мастерской, что располагалась в здании городской распределительной станции «Ташкентэлектросеть». Обычно там ремонтировали трансформаторы и подстанции, готовили столбы для электролиний. И было много чего, из чего отец соорудил агрегат. Этот агрегат делал начинки для пуль. У нас сосед был – лейтенант уголовного розыска, хороший мужик. Он дал отцу свой ТТ, и тот под него сделал патроны. Один раз испытал. Я не видел, что было, но отец сказал, что эффект оказался потрясающим.
Небо хмурилось, похоже, должен был пойти дождь. Холодный ветер уже гнал тёмные облака по темнеющему небу.
– Так что ты можешь сделать ими? – недоверчиво спросил я, беря в руки один патрон, крутя его пальцами и царапая ногтем по пуле.
Шмидтков повертел другой патрон возле моих глаз и тихо сказал:
– Это физика. Чистая физика!
– Так что говорит твоя физика? – немного разозлился я от такого пояснения.
Андрей улыбнулся:
– Дядя Иван, не злитесь, – он обратился не как к командиру, а по-родному, доверчиво, и я простил ему это нарушение устава. – Это просто физика более высокого ранга, чем изучается в школах или на рабфаках. Даже в университетах не все поймут идеи моего отца. Всё связано с Теорией относительности Эйнштейна, который, кстати, читал лекции папе ещё в начале 1920-х годов. Гравитационные поля, пространство и время – это то, что объединяет концепцию данной теории…
Видя моё недоумение, он попытался объяснить более доступно:
– Хм… Представь себе ситуацию: на нас движется танк, скорость около сорока километров в час по пересечённой местности. Пуля, выпущенная из пистолета, естественно, не пробьёт броню. Панцирь танка не пробьёт и автомат – может, только противотанковое ружьё или артиллерийский снаряд.
– Так зачем тебе тогда эта пуля?
– Эта пуля при соприкосновении с бронёй создаёт временной коллапс за счёт гравитационных колебаний пространства. Сложно? Ну… То есть пуля передвигает время в периметре пяти метров на ноль целых и шесть десятых секунды вперёд и останавливает его, делает статичным. Получается, как бы в нашем времени возникают два танка – будущий, который неподвижен из-за «замороженного» времени, и настоящий, что продолжает двигаться дальше по инерции. В результате один танк въезжает в другого, то есть в самого себя, – Андрей правым кулаком шлёпнул по тыльной стороне раскрытой левой ладони, наглядно демонстрируя этот процесс. Звук удара был звонкий. – При этом атомы буквально втискиваются друг в друга, выделяя огромное количество энергии – ведь соприкасаются боевые машины весом в сорок-шестьдесят тонн. Энергия, выделяемая при таком столкновении, была бы колоссальной. Это было не просто разрушение металла, а фактическое сжатие материи до предела. Тепловая вспышка, мощный ударный взрывной импульс – все это сопровождало бы катастрофическое столкновение. Давление и температура в месте контакта были бы столь высоки, что металл буквально испарился бы, превращаясь в раскаленный газ. Конечно, это не аннигиляция, но масса двух объектов настолько значительна, что…
– Чего-чего?
– Ну… ладно, не стану усложнять тему терминами из физики. Могу предположить, что на месте этого мы увидим просто груду металла… – Шмидтков замолчал, видимо, сам прокручивая в мыслях процесс этого явления.
Сказать по правде, я мало что понял из его объяснений о чудо-пуле. У меня закрались сомнения.
– А ты уверен, что это не шарлатанство? – спросил я.
Парнишка уловил моё недоверие, но не обиделся. Честно ответил:
– Уверен. Отец испытывал. Он не успел сделать много пуль и представить их комиссии. Испытания провёл в мае, под Ташкентом, недалеко от кишлака Бричмулла. Потом писал пояснительные материалы к оружию. Спустя месяц после начала войны за ним пришли из НКВД, и больше я его не видел. Мы с мамой так и не узнали, за что его взяли и куда отправили… Но подозреваю, что донос написал начальник смены Иваньков. Он постоянно крутился у установки, пытался понять, что делает отец, предполагая, что это бомба против главы Совнаркома Узбекистана Усмана Юсупова. Я нашёл эти семь патронов в сарае – там обыска не было.
– Будем надеяться, что он жив, – сказал я, но сам себе не поверил. Похоже, что и Никола думал о том же, потому что стал теребить свои усы, а лицо его помрачнело.
– Андрей ничего не сказал, просто отвернулся, чтобы мы не видели его слёз. «Мальчишка же, всего восемнадцать лет», – с горечью подумал я. Таких война нещадно мелет, ломает в своих жерновах, делает жестокими – если ещё выживет. В страшное время мы живём…
Вокруг нас тянулась степь, которая постепенно переходила в полотно разрушенной деревни. Местность была суровой и бесплодной, на первый взгляд, безжизненной, но для военных она была и стратегической позицией, и символом надвигающейся беды.
Здесь, где раньше могли раскинуться зелёные луга или плодородные поля, теперь виднелись лишь изорванные следы от взрывов и обломки разрушенных строений. Грязь и пыль окутывали землю, поросшую высохшей, потрескавшейся травой. Рядом с воронками от бомб виднелись обломки кирпичей, куски деревяшек и прочие остатки былого быта деревни, как мрачные свидетели прошедших баталий.
Погода была дождливой и холодной. Небо затянуло густыми тучами, из которых время от времени срывались слабые, но пронизывающие дождевые капли. Холодный ветер, несущий с собой сырость и мороз, гнал облака по небесному своду, и вдоль горизонта можно было различить, как они сливаются в плотную, почти чёрную массу. Этот ветер пронизывал всё до костей, создавая дополнительное чувство угрюмости и напряжённости в атмосфере.
Из-за постоянного дождя поверхность была изрядно размокшей, что усложняло передвижение и превращало её в сплошную грязь. Каждое движение по этому местечку вызывало резкий, скрипучий звук, а шаги оставляли глубокие следы в кашеобразной грязи. Трава была не просто высохшей, а почти убитой холодом и лишениями войны. Куски вывернутого грунта и обгоревшие деревья добавляли картине запустения и разрушения.
Всё это создавало тяжёлое и угнетающее впечатление, подчеркивающее не только наше физическое состояние, но и моральное. В такой обстановке каждый момент становится ценным, а ожидание врага – напряжённым и полным тревоги.
Но пора было браться за дело.
– Делаем так, – приказал я. – Расположимся на трёх точках, чтобы можно было обстреливать пехоту и закидать гранатами танки. Скорее всего, бронетехника пойдёт по обычной дороге, поэтому устроим засаду здесь, здесь и здесь, – я указал на воронки от взрывов, расположенные в ста метрах друг от друга. – Здесь будет пулемёт, чтобы рассеять атаку пехоты. У каждого по автомату, винтовке и пять гранат. Надеюсь, что три танка мы уничтожим, прежде чем погибнем!
– Можно мне быть первым, ближе к дороге? – вдруг попросился Андрей.
Я вопросительно посмотрел на него. Он быстро разбирал пистолет, чтобы очистить его от грязи, делая это умело и чётко.
– Дистанция для пистолета – тридцать-сорок метров. Я не знаю, каким будет взрыв, но уверен, что мощным. Поэтому мне нужно сначала пропустить пару танков, а потом стрелять по удаляющимся и приближающимся.
– Хорошо, парень, двигайся вперед, – согласился я. – Но будь осторожен!
– Так точно, товарищ старший сержант, – отчеканил Андрей. Он быстро схватил свои вещи, проверил их в последний раз и пополз вперед. Его движение было осторожным и напряжённым: он двигался, опираясь на локти и колени, стараясь максимально снижать шум и не привлекать лишнего внимания. Андрей был одет в обычную военную форму, но его обмундирование казалось тяжелым и неуклюжим на фоне его стремительных и расчётливых движений. Комок грязи прилип к его одежде, добавляя дополнительную тяжесть к уже и без того сложному пути. Он периодически прижимался к земле, чтобы скрыться от возможного наблюдения, и поворачивал голову, прислушиваясь к любому звуку в окрестностях.

Я видел, как парнишка нервничает, хотя он и пытался сохранять решимость. Словно в его движениях скрывалось одновременно и желание уничтожить фрицев, и стремление стать героем, и необходимость доказать, что его отец действительно создал что-то уникальное. Неизвестно, что именно из этих чувств было сильнее, но в его глазах отражалась решимость, которую трудно было не заметить. Он действовал уверенно, несмотря на внутреннюю тревогу, и это было видно даже издалека.
Никола, мурлыча какую-то народную песню на украинском, пополз в другую сторону, толкая перед собой немецкий пулемет. Песня, которую он напевал, была «Реве та стогне Дніпр широкий», знакомая и милая песня, которая в этих условиях казалась почти непривычной. Его движение было более размеренным и осознанным, несмотря на тяжесть пулемета, который он перемещал с особой осторожностью. Это был немецкий MG-34, известный своей надёжностью и мощной огневой мощью. Он напоминал о том, что противник не дремлет, и его роль в бою была важной, если не решающей.
Я же сосредоточился на своей позиции. Я быстро и эффективно разложил вокруг себя гранаты, ружье и автомат. Гранаты лежали рядом, аккуратно расставленные, готовые к немедленному использованию. Я проверил их фиксаторы и капсулы, чтобы убедиться, что они не подведут в самый ответственный момент. Ружье было тщательно осмотрено и подготовлено к стрельбе, его ствол был чистым и готовым к действию. Автомат лежал рядом, его металлический корпус был холодным на ощупь, но это был знакомый и надёжный инструмент для предстоящего боя. Я расставил все эти предметы в пределах досягаемости, чтобы в случае необходимости мгновенно перейти от одного вида оружия к другому.
Каждое движение было сделано с максимальной осторожностью и вниманием, чтобы подготовиться к грядущему бою. Всё было готово, и теперь оставалось только дождаться, когда начнётся главное действие.
И тут до нас донесся гул – это двигались в нашу сторону колонны немецких танков. Громкий шум двигателей перекрывал звуки окружающей природы, в воздухе витал запах выхлопных газов и пыли.
Мы столкнулись с дивизией СС «Мертвая голова» (Totenkopf), элитной частью войск Вермахта, известной своей жестокостью и боевой мощью. Эта дивизия прославилась в боях по всему Восточному фронту, зарекомендовав себя как одна из самых опасных и эффективных единиц в германских вооруженных силах. Они воевали на различных фронтах, от Польши до Советского Союза, и всегда оставляли за собой поле сражения, усыпанное обломками и телами. Танкисты из «Мертвой головы» были известны своей высокой квалификацией и агрессивной тактикой ведения боя, что сделало их настоящей угрозой для противника.
Я видел, что это были «панцирькампфвагены» (Panzerkampfwagen IV), один из самых распространенных и мощных машин немецкой армии. Они были оснащены 75-мм пушкой KwK 40, которая могла пробить броню многих советских танков. Толщина брони у «панцирькампфвагена IV» варьировалась от 30 мм на лобовой части до 20 мм на боковых и кормовых панелях, что обеспечивало достаточно надежную защиту от большинства стрелкового оружия и артиллерийских снарядов того времени.