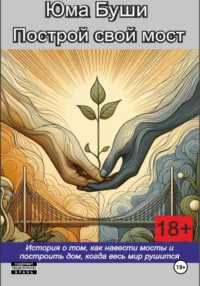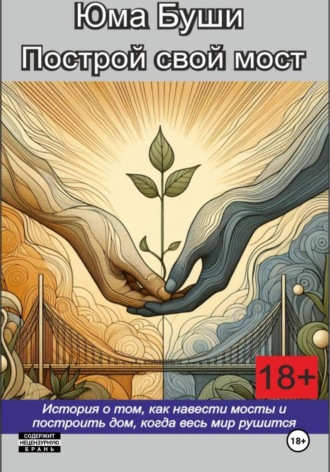
Полная версия
Построй свой мост
– Почти. Пауль… – она замолчала, подбирая слова. – Костя сегодня нашел карту. Спросил, когда ты приедешь.
На той стороне повисла пауза. Она была такой долгой, что Натка уже подумала, что связь прервалась.
– Я тоже смотрю на карту, – наконец сказал он тихо. – Почти каждый день.
– И что ты на ней видишь? – ее голос прозвучал чуть слышно.
– Вижу океан. И два берега. На одном – ты и Костя, которые, наконец-то, могут дышать свободно. На другом – я и мой сын, который в этой свободе отчаянно нуждается.
Он говорил не как влюбленный, мечтающий о воссоединении. Он говорил как хирург, констатирующий сложную, почти неразрешимую анатомическую аномалию.
– Натка, мне есть, что тебе сказать. То, что я должен был сказать давно. Но тогда… тогда тебе было не до этого.
Он сделал паузу, давая ей возможность остановить его, но она молчала, чувствуя, как по спине бегут мурашки.
– Моя бывшая жена – наркоманка. – Он выдохнул это слово резко, одним выдохом, словно вынимая из себя занозу. – Не социопат, не стерва, как ты, возможно, думала. А больной, несчастный человек, который много лет назад подсел на опиаты после операции. Я боролся за нее до последнего. Потом – за сына. Сейчас у меня временная опека. Но она – его мать. И по закону, и в его глазах. Если я просто возьму и уеду на другой конец света, она его похоронит. В прямом смысле. А суд может посчитать это похищением, и я больше никогда не получу и шанса на полную опеку.
Он умолк, и в тишине Натка слышала лишь его тяжелое дыхание и гул океана в тысяче километров от нее. Она сидела, сжав в руке телефон, и смотрела на спящего сына. Она представляла себе другую женщину, там, в Канаде, такую же мать, но потерянную, сломленную. И мужчину, который был прикован к месту не долгом, не работой, а хрупкой жизнью собственного ребенка.
– Почему ты не сказал раньше? – прошептала она.
– Потому что твоя война была реальной и немедленной. А моя – тлеющей, хронической. Ты боролась за безопасность. Я – за призрачный шанс на нормальное будущее для Майкла. Твоя битва казалась важнее.
В его голосе не было упрека. Лишь усталое признание факта. И в этот момент Натка, наконец, поняла. По-настоящему поняла. Их связь никогда не была историей о двух одиноких сердцах, нашедших друг друга. Это была история о двух людях, запертых в клетках своих обстоятельств. Он был ее тылом в ее войне. Но его собственная война была далеко, за океаном, и у нее не было громких сражений, лишь тихая, изматывающая окопная жизнь.
– Теперь ты понимаешь? – его голос вернул ее к реальности. – Я не могу просто взять и приехать. Я в ловушке, Натали. Почти как ты была в ловушке своего страха.
Она кивнула, снова забыв, что он не видит.
– Да, – выдохнула она. – Понимаю.
Они больше не говорили о будущем. Не было в этом смысла. Будущее было гирей на ногах у них обоих. Они поговорили еще несколько минут о пустяках, а потом положили трубки.
Натка подошла к окну. Ночь была черной, беззвездной. Где-то там, за тысячу километров, был человек, чья боль и чья ответственность оказались так похожи на ее собственные. И эта общность в несвободе была горькой, трезвой и, как это ни парадоксально, самой честной формой близости, которую они могли сейчас позволить.
Она обернулась к их тесной, но безопасной комнате. Ее крепость выстояла. А его крепость все еще была в осаде. И она не знала, есть ли у них силы и время, чтобы дождаться конца этой осады.
*******
Покой оказался не только приятным, но и трудным. Организм, сжатый в комок многомесячным страхом, не сразу понял, как расслабиться. Натка ловила себя на том, что по старой привычке сканирует лица прохожих, а Костя, приходя из школы, первым делом бросал проверяющий взгляд на мать – все ли в порядке.
Но жизнь брала свое. На столе, рядом с чертежами Натки, прочно обосновался пластиковый стенд с красками, кисточками и наполовину готовой моделью истребителя. Это было его священнодействие, его личная территория в их общей комнате. Иногда, склонившись над мелкими деталями, он что-то напевал себе под нос – забытую украинскую песенку или припев из услышанной по радио немецкой попсы.
Именно за этим занятием – склеиванием хвостового оперения – его и застал очередной звонок Пауля. Натка взяла трубку, отойдя к окну.
– Привет, – голос его был ровным, без привычной усталой напряженности. – Как ваш мирный быт?
– Привыкаем, – улыбнулась она, глядя, как Костя, не отрываясь от работы, насупился, пытаясь вдеть нитку лески в имитацию антенны. – Костя осваивает авиацию. Кажется, после подлодок его потянуло в небо.
– Это логично. Свобода манит, – заметил Пауль. И в его словах не было подтекста, лишь констатация.
Они говорили о пустяках, но за этими пустяками стояло нечто большее – тест на прочность их нового, “послевоенного“ общения. Смогут ли они говорить просто так, без общей цели, без кризиса?
Вдруг Костя, отложив пинцет, подошел к Натке и потянул ее за рукав.
– Мам, спроси у него, – прошептал он, стараясь, чтобы его не было слышно в трубку, – а, правда, что “Мессершмитт“ был деревянный? В книжке так написано, а дядя Макс говорит, что чушь.
Натка, удивленная, переспросила. Пауль на той стороне засмеялся – редкий, легкий звук.
– Передай капитану, что каркас был деревянный от нехватки материалов в конце той войны. Дерево – не самый надежный союзник в небе.
Она передала ответ. Костя выслушал, важно кивнул, как коллега, получивший ценную консультацию, и вернулся к своему столу, уже что-то обдумывая.
– Он у вас не просто собирает, а вникает, – заметил Пауль, и в его голосе прозвучала неподдельная заинтересованность.
– Да. Это его способ привести в порядок свой мир. Все детали на своих местах, все по инструкции. В отличие от жизни.
Пауль помолчал, обдумывая и заметил:
– Умная тактика. Мне следовало бы у него поучиться.
Тишина снова повисла между ними, но на этот раз она была наполнена не неловкостью, а общим пониманием. Они были двумя взрослыми, наблюдающими за ребенком, который пытается найти опору в хрупком мире. И в этом наблюдении была особая, трезвая близость.
– Знаешь, – снова начал он, и голос его стал серьезнее, – я хотел вернуться к нашему разговору. О берегах и ловушках.
– Я слушаю, – тихо сказала Натка, предчувствуя.
– Я не могу просто уехать, Натали. Это не вопрос желания. Это вопрос выживания моего сына.
Он сделал паузу, собираясь с мыслями.
– Суд по моей постоянной опеке над Майклом – это не спринт, это марафон. Каждое мое действие, каждый мой шаг оценивается. Если я сорвусь и уеду в Германию, даже на месяц, это будет представлено в суде как безответственность, как пренебрежение родительскими обязанностями. Социальные работники решат, что я нестабилен. И тогда Майкл вернется к матери. А это… это для него смертный приговор. Медленный, но неотвратимый.
Он говорил, не оправдываясь, а констатируя юридические и медицинские факты. И в этой сухой констатации была бездна отчаяния.
– Я понимаю, – снова сказала Натка, и на этот раз это была не просто вежливость. Она смотрела на Костю, на его сосредоточенно сведенные брови, и представляла другого мальчика, там, за океаном. И поняла, что перед этим – перед спасением ребенка – отступает все. Даже их хрупкое, едва начавшееся счастье.
– Я в ловушке, – тихо произнес Пауль. – И самое ужасное, что стены этой ловушки сложены из моей же любви и ответственности. Я не могу их разрушить, не разрушив его будущее.
Они больше не говорили о будущем. Оно висело между ними тяжелым, неподъемным грузом. Но в этот раз, положив трубку, Натка не чувствовала горечи или предательства. Она чувствовала странное, щемящее единство. Пауль был с ней в одной лодке, пусть и на разных ее концах. Их обоих держали на плаву одни и те же якоря – долг и любовь к своим детям. И в этой общности судьбы, в этой “романтике вопреки“, было больше правды, чем в любой красивой сказке про любовь, сметающую все на пути.
*******
Наступили настоящие, осенние каникулы. Первые за долгое время, когда не нужно было прятаться или оглядываться. Утро начиналось не с проверки камер, а с запаха какао и споров Кости с дедом над кроссвордом.
Однажды, вернувшись с рынка с полной сумкой яблок, Натка застала сына в их комнате, расставлявшего на полу готовые модели. Танки, самолеты, недостроенная подлодка. Он сидел в центре этого “музея“ с серьезным видом экскурсовода.
– Это моя армия, – заявил он, заметив ее интерес. – Она не воюет. Она… стоит на защите. Как те датчики у дяди Макса.
Его слова задели ее за живое. Даже в игре, в своем безопасном мире, он выстраивал оборону. Старые раны заживали медленно.
– А кто противник? – осторожно спросила Натка, опускаясь на корточки рядом.
Костя пожал плечами, проводя пальцем по крылу истребителя.
– Не знаю. Просто… чтобы был порядок. Чтобы все было на своих местах. А то опять может прийти кто-то плохой и все сломать.
В его глазах читалась не детская паранойя, а горький, выстраданный опыт. Он не боялся конкретного “плохого“, он боялся хаоса, который тот приносил. И его модельки были попыткой этот хаос укротить, подчинить жестким правилам сборки.
Вечером зазвонил Пауль. Видеозвонок. Натка, уставшая после долгого дня, приняла его, прислонив телефон к банке с кисточками на столе Кости. Пауль был у себя в кабинете, за спиной у него виднелись стеллажи с книгами и медицинскими атласами.
– Привет, – он улыбнулся, и его глаза сразу нашли ее. – Вы как?
– Готовимся к обороне, – с легкой иронией в голосе сказала Натка, переводя камеру на “армию“ Кости. – Командующий демонстрирует силы.
Костя, увлеченный своим делом, сначала не заметил звонка. Увидев Пауля на экране, он смущенно вздрогнул, но не убежал, как бывало раньше.
– О, – произнес Пауль с неподдельным интересом. – Внушительные силы. Я вижу и танки, и авиацию. А флот?
– Флот в доках на ремонте, – серьезно ответил Костя, поднимая, наконец, взгляд. – Подлодка. Ей двигатель надо ставить.
– Самое сердце корабля, – кивнул Пауль. – Без него никуда. У Майкла, моего сына, поезда. Целая железная дорога по всей комнате.
– Круто, – прошептал Костя, и в его глазах вспыхнул огонек любопытства, смешанный с легкой завистью. Не к поездам, а к тому, что у того мальчика есть целая комната. Своя.
Они поговорили еще минут пять о моделях, о том, какой клей лучше, и Пауль, к удивлению Натки, дал пару дельных советов, словно и впрямь разбирался в этом. Он не сюсюкал, не говорил свысока. Он разговаривал с Костей как с младшим коллегой, и тот расправлял плечи и говорил все увереннее.
Когда разговор иссяк, и Костя, довольно кивнув, вернулся к своим танкам, Пауль перевел взгляд на Натку.
– Он стал другим. Более… уверенным в себе.
– Покой лечит, – просто сказала она. – А твой ответ про деревянный “Мессершмитт“ произвел фурор. Теперь ты для него непререкаемый авторитет в истории авиации.
Пауль тихо рассмеялся, но в его глазах не было веселья.
– Жаль, что в собственной жизни я не всегда могу быть таким же авторитетом. – Он помолчал, его взгляд стал отрешенным. – Сегодня было очередное заседание по опеке. Бывшая жена пришла. Выглядела… плохо. Судья перенес слушание. Снова. Это как пытаться бежать по зыбучему песку. Ты тратишь все силы, но почти не движешься вперед.
Он не жаловался. Он просто делился фактом из своей жизни, как она минуту назад поделилась фактом из своей. В этом не было страсти, не было надрыва. Была усталая общность двух людей, несущих свои тяжелые ноши.
– Я начинаю понимать, что ты имела в виду, говоря о своей крепости, – тихо сказала Натка. – Ты строишь свою. Стена за стеной. Бумажная, юридическая, но от этого не менее прочная.
– Да, – он кивнул. – Только моя крепость должна удерживать не врага снаружи, а того, кто внутри. Моего сына. Чтобы он не выпал в этот хаос.
Они смотрели друг на друга через экран, и расстояние между ними вдруг показалось не физическим, а экзистенциальным. Она отстраивала жизнь после осады. Он все еще находился в самой ее гуще.
– Знаешь, – сказал он перед самым прощанием, – иногда мне кажется, что мы с тобой, как два Костиных самолетика. Собраны по одной инструкции – выжить, защитить своих. Просто летим в разных направлениях. И не факт, что наши траектории когда-нибудь пересекутся снова.
– Главное, что мы летим, – ответила Натка, и в ее словах не было ни надежды, ни отчаяния. Лишь простое, трезвое признание. – А не лежим на земле, разбитые.
После звонка в комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь щелчками пластика в руках Кости. Натка подошла к окну. Ночь была темной, но в ней уже не было прежней, гнетущей пустоты. Было понимание. Понимание того, что одиночество – это не всегда отсутствие рядом кого-то. Иногда это знание, что тот, кто тебя понимает, находится в точно такой же одинокой ловушке, за тысячи километров. И в этом знании была своя, горькая и странная, форма близости.
*******
Проект набережной входил в финальную стадию, требуя полной концентрации. Как-то раз, засидевшись допоздна над чертежами, Натка не заметила, как Костя, вместо того чтобы лечь спать, устроился на своем диване с фонариком и книгой.
– Ты чего не спишь? – спросила она, отрываясь от планов.
– Не могу, – буркнул он, уткнувшись в страницы. – Тут про космос. Там, на орбите, темно и холодно, а они в этой жестяной банке летят. И не боятся.
Он говорил с вызовом, как бы бросая себе самому испытание. Натка поняла: его “армия“ из моделей перестала быть просто обороной. Она стала трамплином к чему-то большему – к исследованию миров, где не было ни бывших мужей, ни судов, ни границ.
– Они не боятся, потому что доверяют друг другу и своему кораблю, – тихо сказала она.
– Как мы с тобой, – не поднимая головы, констатировал он и потушил фонарик.
Его слова повисли в темноте, простые и безоговорочные. Да, они были экипажем. И их корабль, их тесная комната, выдержал шторм.
На следующее утро пришло долгожданное письмо из архитектурной палаты. Натка, стоя у почтового ящика с распечаткой в дрожащих пальцах, не сразу поверила глазам. Официальное подтверждение признания диплома. Немецкая лицензия. Билет в профессию, которую она когда-то выбрала, а потом отложила на дно чемодана, спасаясь от войны.
Она не кричала от восторга, не звонила сразу всем знакомым. Она просто облокотилась о стену и закрыла глаза, чувствуя, как внутри что-то замыкается в правильную, прочную цепь. Это была не победа – это было обретение почвы. Той самой, что он так искал для своего сада.
Вечером она не стала звонить Паулю. Она сфотографировала документ и отправила ему с одним сообщением: “Лицензия получена“.
Он ответил почти сразу, но не текстом. Голосовое сообщение.
Сначала было слышно только его дыхание, ровное и глубокое. Потом он заговорил, и голос его был низким, наполненным не гордостью, а каким-то странным, светлым уважением.
– Я всегда знал, что ты не просто выживаешь. Ты прорастаешь. Как те первые ростки в твоем саду. Сквозь асфальт обстоятельств. – Он сделал паузу. – Я сейчас смотрю на эту лицензию и думаю: вот она, твоя настоящая крепость. Та, что ты построила сама. И никто и никогда не сможет отнять ее у тебя. Поздравляю, Натали. От всей души.
Он не сказал “я горжусь тобой“. Он признал ее силу как данность. И в этом было больше настоящего чувства, чем в любом восторге.
Позже, когда Костя уснул, они разговаривали по видео. Пауль выглядел истощенным.
– Сегодня был тяжелый день, – сказал он, не дожидаясь вопросов. – Майкл. У него случилась истерика в школе. Он не хотел отпускать меня утром. Детский психолог говорит, что это реакция на нестабильность. Он чувствует, что почва уходит из-под ног, и цепляется за меня как за единственную опору.
Он провел рукой по лицу, и в этот момент Натка увидела не сильного хирурга и стратега, а просто уставшего отца, который не знает, как успокоить своего ребенка.
– Я не могу его подвести, – тихо произнес он. – Я не могу сорваться и уехать, чтобы решить свои личные проблемы. Потому что для него это будет не решение проблемы, а катастрофа. Его мир рухнет.
Натка молчала. Она смотрела на него и вдруг с абсолютной, кристальной ясностью осознала всю глубину его ловушки. Это не была тюрьма из стен или законов. Это была тюрьма, стенами которой была любовь. Любовь к сыну, которая диктовала ему оставаться в аду ради того, чтобы этот мальчик не провалился в него окончательно.
– Я понимаю, – сказала она, и этих двух слов было достаточно.
Больше они не говорили о будущем. Они сидели в тишине, глядя друг на друга через экран – два капитана на мостиках своих кораблей, которые не могли сблизиться, но видели огни друг друга в ночи. И в этом знании, что ты не один в своем одиночестве, была странная, пронзительная надежда. Не на счастливый конец, а на то, что ты выдержишь. Потому что кто-то там, далеко, держит свой курс и верит, что ты тоже справишься.
Положив трубку, Натка подошла к окну. Ночь была беззвездной, но где-то за облаками горели созвездия. Она обернулась и посмотрела на их комнату. На спящего Костю, на его модели, на свои чертежи. Здесь было тесно, но это было их место. Их корабль.
А где-то за океаном был другой корабль, с другим мальчиком на борту. И капитан того корабля был ее самым верным союзником в этом бескрайнем море одиночества. И пока они оба держались на плаву, их история не была закончена. Она была просто приостановлена. Как пауза между приливами.
*******
Утро началось с того, что Костя, обычно копошившийся в постели до последнего, встревожил Натку тишиной. Она нашла его сидящим на полу перед разобранной моделью истребителя. Детали были аккуратно разложены на газете, а сам он, сжав кулаки, смотрел в окно, где затянутое тучами небо сулило затяжной дождь.
– Что случилось? – спросила она, опускаясь рядом.
– Ничего, – буркнул он, но подбородок его предательски вздрогнул. – Просто… она не такая. Не как на картинке.
– Модель?
– Жизнь, – он резко повернулся к ней, и в его глазах стояли слезы гнева и разочарования. – Ты сказала, что все кончилось. Что он не вернется. А она все равно… кривая.
Он ткнул пальцем в разобранный пластик. Но было ясно, что речь не о модели. Речь о том, что даже в безопасности оставался осадок – трещина в доверии к миру. Рай восстановленного спокойствия оказался с изъяном.
– Знаешь, – тихо сказала Натка, беря в руки фюзеляж, – даже самые совершенные самолеты имеют допуски при сборке. И летчики знают об этом. Но они все равно летают. Потому что идеального не существует. Есть – надежное.
Она не стала говорить, что все наладится. Она говорила о том, что можно жить и с неидеальным. С трещинами. Лишь бы конструкция была прочной.
К вечеру дождь хлестал по стеклам, запирая их в теплом коконе комнаты. Натка готовила чай, слушая, как Костя, помирившийся со своим истребителем, что-то бормочет, склеивая детали. Внезапно он спросил, не поднимая головы:
– А Пауль сейчас тоже пьет чай?
– Наверное. Только у него утро.
– Странно, – заметил Костя. – Мы тут, а он там. И все наоборот.
Его детская констатация развернула планету в ее реальных, неудобных масштабах. Да, они были на противоположных сторонах не только океана, но и суток. И жизни.
Зазвонил телефон. Пауль. Его лицо на экране было бледным, с серыми тенями под глазами.
– Я только что отвез Майкла в школу, – сказал он без предисловий. – Он сегодня… не хотел идти. Говорил, что боится, что я за ним не вернусь. Что я исчезну, как исчезала его мать.
Он говорил тихо, но каждое слово было похоже на удар по наковальне.
– Я держал его за руку до самых дверей класса. И видел в его глазах тот же страх, что когда-то видел в глазах Кости. Страх потери своего единственного островка. – Пауль провел рукой по лицу. – И я понял, что не могу его покинуть. Не физически. Я не могу позволить себе даже шага, который покажется ему бегством. Потому что для него это будет катастрофа.
Он не смотрел на Натку, а смотрел куда-то в пространство за камерой, как бы видя там лицо своего сына.
– Ты говорила, что твоя крепость выстояла. А моя… моя крепость – это он. Майкл. И ее стены – это его хрупкая психика. И я не могу из нее выйти, не обрушив все.
Натка молчала. Она смотрела на этого сильного, собранного мужчину, раздавленного любовью к своему ребенку. И все ее обиды, все сомнения в его прошлом, вдруг показались мелкими и незначительными перед этой громадой его настоящей жертвы.
– Я понимаю, – сказала она, и это было единственное, что можно было сказать.
– Я знаю, – он наконец поднял на нее взгляд. – И в этом, наверное, и есть наше чудо. То, что мы можем понять друг друга, даже не требуя ничего невозможного.
Они говорили еще несколько минут – о ни о чем. О дожде за ее окном и первом снеге, обещанном в Торонто. О том, что Костя достраивает истребитель. О том, что проект набережной почти готов.
Когда разговор иссяк, они не сказали “до свидания“. Они просто молча смотрели друг на друга, как бы впитывая эту тихую, горькую уверенность в том, что их пути разошлись не из-за недостатка чувств, а из-за их избытка – к своим детям.
Натка положила телефон и подошла к окну. Дождь стихал. На мокром асфальте отражались огни фонарей, удлиняясь в причудливые полосы. Она думала о Пауле. Не как о любимом мужчине, а как о человеке, который, как и она, выбрал долг. И в этом выборе было достоинство, которое не могла отнять у них ни одна разлука.
Она обернулась к комнате. Костя, убаюканный монотонной работой, уже дремал, сидя за столом, положив голову на руки. Натка бережно перенесла его на диван, укрыла пледом и потушила свет.
Еще один непростой день подошел к концу. Буря миновала, оставив после себя ясное, трезвое понимание: некоторые корабли не предназначены для одной гавани. Их миссия – держаться на плаву, чтобы свет их огней был виден другим таким же кораблям в ночи. И в этом – своя, особая, неброская романтика.
Глава 14
Первое по-настоящему теплое утро за долгое время разбудило Натку не тревогой, а лучом солнца, светившим прямо в глаза. Она лежала с закрытыми веками, слушая доносящиеся с кухни голоса. Низкий, ворчливый бас отца и звонкий, настойчивый ответ Кости.
– Дед, а если в двигатель попадет пылинка, он сломается?
– Не сломается, – откликнулся отец. – Он же не из фанеры. Его собирали умные люди, которые все продумали. Как твоя мама свои мосты.
– А мамины мосты не сломаются?
– Никогда. Потому что она каждый винтик в голове держала, прежде чем на бумагу положить.
Натка улыбнулась, не открывая глаз. Эта простая, бытовая сцена была для нее целебной мазью. Ее сын снова учился быть просто ребенком – любопытным, немного дотошным, а не маленьким стражем их крепости.
Она вышла на кухню. Костя, увлеченный разбором тостера под присмотром деда, даже не заметил ее. Мать, помешивая на плите кашу, ласково потрепала ее по плечу.
– Выспалась, дочка? Иди, чай готов. Сегодня такой день, грех сидеть в четырех стенах. Сходите с Костей в зоопарк, что ли.
Идея была настолько простой и нормальной, что Натка, на секунду, растерялась. Они могли просто пойти в зоопарк. Без оглядки. Без плана экстренного отступления.
Вечером, вернувшись, домой уставшие, но довольные, они застали Пауля на видео-звонке. Он сидел в своем кабинете, но сегодня на его лице не было следов усталости, лишь сосредоточенная ясность.
– Привет, – он улыбнулся, глядя на их разгоряченные лица. – Похоже, у вас был продуктивный день.
– Мы видели сурикатов! – выпалил Костя, не дав, матери ответить. – Они стоят столбиком! И один все время за всеми следил!
– Как настоящий часовой, – согласился Пауль. – У них это в крови. А вы, Натали, как?
Она поймала его взгляд и поняла: он ждал этого разговора. Не о сурикатах, а о том, что долго оставалось невысказанным между ними.
– Мне есть, что сказать тебе, – произнес он. – То, что я должен был сказать давно. Но тогда… тогда не было правого момента.
Он посмотрел на нее прямо, без тени уклонения.
– Ты была права. Участие в той программе было ошибкой, не юридической, все было в рамках закона, а моральной. Я закрывал глаза на сомнительное происхождение органов, потому что видел только своих умирающих пациентов. Я оправдывал себя математикой спасения. Но нет такой математики, которая оправдает использование одного ребенка для спасения другого. Даже с бумагами. Даже с согласием.
Он сделал паузу, давая ей осмыслить.
– Я ушел из этой программы, как только смог. Но я не могу исправить прошлое. Я могу только не повторять этих ошибок. И всю оставшуюся жизнь нести за них ответственность. Я не прошу прощения. Я прошу… понимания.
Натка смотрела на него – на этого сильного, умного мужчину, который не боялся признать свою слабость и ошибку. И она вдруг поняла: они оба несут груз своего прошлого. Его – ошибка выбора под давлением обстоятельств. Ее – жертва чужого выбора. И это знание делало их равными.