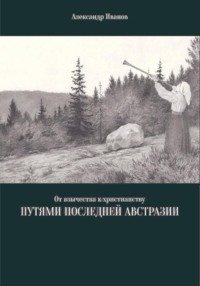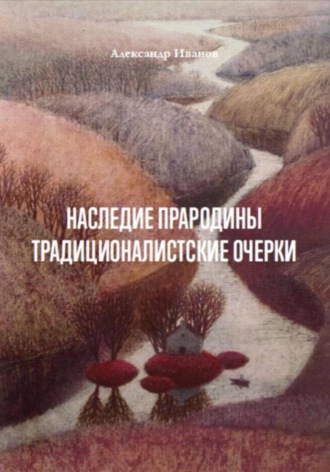
Полная версия
Наследие прародины. Традиционалистские очерки
О Событии, несущем одинаковое сакральное значение, и о людях, через которых этому Событию должно прийти, в одном из своих интервью В. И. Карпец заметил следующее: «Если быть последовательным в понимании того, как Вечность отражается во времени, получается, что это вообще одно и то же Событие, которое только меняет определённые очертания. Это не значит, что это одни и те же люди. […] Это разные люди, разные души, но все они объединены одним и тем же смыслом События. И этот смысл События начертан, и он… продолжается, и он ещё не завершён. Он будет завершён только тогда, когда вообще завершится актуальный мир». Подобным образом и разные Места могут быть отмечены одним смыслом События, и тогда они могут быть рассмотрены как единый сакральный Топос. Это их метафизическое единство, которое вводится в наше внимание Священной Традицией, тем не менее всегда пытается соскользнуть в упомянутый выше историцизм или, говоря иначе, конкретику бытия тварного мира и профанного линейного времени. Так Событие теряет свой смысл, но оставляет позади себя собственное очертание – тревожное пространство утраченного Иного.
Именно события, привязанные к меридиану 35-го градуса восточной долготы на единственно историческом материке (Евразии) занимают центральное место, определяя ход всей истории человечества. Нет смысла перечислять их, достаточно будет вспомнить Троянскую войну и Воплощение Господа нашего Iсуса Христа.
Особое отношение к этому меридиану фиксируется уже в эпоху зарождения институтов государственности на севере Европы. Летописец Нестор передаёт нам легенду о первом князе киевских полян, которые потом, спустя столетия, вместе с восточными германцами – руссами, крестившись, создадут единый православный русский народ. Итак: «…Кий был перевозчиком; был-де тогда у Киева перевоз с той стороны Днепра, отчего и говорили: „На перевоз на Киев“. Если бы был Кий перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду; а этот Кий княжил в роде своём, и когда ходил он к царю, то говорят, что великих почестей удостоился от царя, к которому он приходил. Когда же возвращался, пришёл он к Дунаю, и облюбовал место, и срубил городок невеликий, и хотел сесть в нём со своим родом, да не дали ему живущие окрест; так и доныне называют придунайские жители городище то – Киевец. Кий же, вернувшись в свой город Киев, тут и умер; и братья его Щек и Хорив и сестра их Лыбедь тут же скончались».
Летописца ставит в затруднение тот факт, что Кий, будучи простым перевозчиком, удостоился аудиенции самого византийского императора. Тем не менее мы, в свою очередь, можем поставить под сомнение само это сомнение Нестора. В данном случае нас не сильно интересует вопрос «историчности» самого Кия и его визита к императору. Важно понять внутреннюю логику легенды, которая в данном случае намного превосходит логику изложения самого Нестора. Итак, зачем перевозчик отправился в Константинополь? Ответ очевиден – для того, чтобы получить властные полномочия; выражаясь проще, для того, чтобы стать князем. Но сразу встаёт второй вопрос: почему для этого ему требовалось разрешение императора Римской империи?
На первый взгляд, вообще непонятно, на что претендовал этот выходец со Среднего Поднепровья, которое в те времена не представляло большого геополитического интереса для Восточной Римской Империи. Примерно в то же самое время (в 508 году) Хлодвиг I Меровинг был объявлен послами Константинополя своим консулом. По-гречески этот титул звучит как «ипат» – «высочайший» и по сути означает верховного правителя в отсутствие царя. Но в отличие от Кия франкский правитель, во-первых, по существу являлся правителем бывшей римской провинции Галлии, во-вторых, претендовал на роль пангерманского конунга и, в-третьих, был православным.
Ничего подобного легенда о Кие до нас не доносит. Что вообще мы знаем о славянских князьях, и что легитимировало их властные полномочия? Вероятно, принадлежность к роду первого князя. Славянские, главным образом северорусские, предания доносят до нас его имя в форме «Волх[в]». Как уже указывалось выше, это имя родственно именам прародителя правящей династии у других европейских народов. У германцев это Волсунг, у римлян – Асканий Юл. Юл – сын Энея. Согласно Снорри Стурлуссону, Энеей некогда назывался весь Европейский континент. В «Путях Австразии» был показан механизм перенесения образа общеиндоевропейской традиции в локальную этническую. В частности, там говорилось: «Образ изначальной прародины замещается актуальными землями: Юл связывается с Италией, Вольсунг – с Северной Европой, Волхв с Новгородом; и одновременно сам праиндоевропейский персонаж получает новую национальную принадлежность – италики считают его италийцем, германцы – германцем, а славяне – славянином». Здесь можно сделать ещё одно важное уточнение – непосредственная историческая память фиксировала в качестве последнего местопребывания правящей династии (окончательно ещё не разделённого праиндоевропейского сверхэтноса) Трою. И именно по этой причине практически все древние правящие династии Европы вели свой род от её царей[14].
В этом свете становится понятным, почему Кий ищет подтверждения своего права на княжение у римского императора в Константинополе. Император ромеев занимает трон Юла (уже не по крови, а по чину) и находится там, где некогда стояли стены Илиона. Греческое Iλιον передаёт то же название, что и хеттское Wi-lu-sha, и в самой древнейшей праностратической перспективе доносит до нас протосему *Ul. В знаковом выражении эта протосема обозначалась перевёрнутой U, дугой, и означала широкий семантический круг – солнечные врата и дворец, где скрывается дневное светило, а также символизировала ночное светило – луну, которая отражает во тьме солнечный свет, пещеру, могилу, материнскую утробу. Всё вместе можно обозначить как отражение образа Абсолюта в нижних водах Творения; или же обозначение того, что хранит в себе тайну Абсолюта, включая семантику «носителя Божественной власти на земле». Отсюда праславянское определение власти – *Volstь. Собственно, для троянцев XIII–XIV вв. до Р. Х. то, что донёс до нас хеттский язык в форме Wi-lu-sha, звучало в своём семантическом посыле так, как для нас звучит слово «волость», т. е. «своя», «подвластная» территория.
Ещё раз повторимся, в данном случае нас интересуют не насущные политические потребности и претензии какой-либо конкретной исторической эпохи, но то духовно-историческое содержание, в контексте которого были совершены те или иные действия. Или, говоря иначе, общеисторический смысл, а не сиюминутная выгода.
В этой перспективе походы руссов в союзе со славянами IX–X вв. могут предстать для нас в совершенно ином свете. Когда в 907 году Олег Вещий прибил свой щит к вратам Царского города (Константинополя), это означало не просто торжество победителя, но знак того, что город взят под его защиту. Иначе говоря, Олег осуществлял не грабительский набег с целью наживы, сродни набегам викингов (хотя и сам был варягом, а именно – норвежцем), но военный поход для подтверждения претензий Игоря (малолетнего сына Рюрика) на титул кесаря, «конунга конунгов».
То, что для этого захвата Константинополя было явно недостаточно, станет понятно позже, во времена Игорева внука – равноапостольного князя Владимира, времена интенсивного формирования национальной самоидентификации русского народа, которая, в свою очередь, ещё позднее, к XV в. по Р. Х., будет сформулирована как идея Руси – Третьего Рима. Но тогда, в X веке, всё, на что могли опереться «северные варвары», – это родословные собственных преданий, связывающие их с династией Приама и восходящие к Одину и Фриге (нижнегерманская Frigg, верхнегерманская Frija).
И здесь необходимо несколько слов сказать о том, как понималось это «божественное происхождение» первоначально. Общим местом скандинавских преданий является, во-первых, мотив рождения сына нуминозным существом (валькирией) от земнородного конунга, во-вторых, схождение божества (Одина) к супруге князя, находящегося в отлучке (погибшего на войне), либо случайная встреча некоего нуминозного существа с девой. В «Песне о Риге» мы находим адекватное объяснение этих мотивов. Риг поочередно приходит в гости к трём парам супругов, после чего проводит ночь, ложась между ними. Вслед за этим происходит рождение трёх детей – прародителей германских сословий. В этом видится указание на особую небесную волю, Промысл в соединении начал. Иными словами, естественную инициацию, когда зачатие и рождение происходит не по воле и похоти человеческой, но по промыслу самого Бога. Так утверждается единственно легитимная власть на Земле. И, как говорилось выше, последним историческим оплотом этой власти была область древней Троады.
Начало европейской культуры
Именно культура Троянского царства находится в начале греко-римской античности, а она, в свою очередь, лежит в основе нашей культуры. Вне её было и остаётся варварство. Этот феномен «старшинства» эгейского мира в рамках индоевропейского мира в целом невозможно понять вне доктрины династического права. Зададимся вопросом, почему Эгеида? Почему не гораздо более архаичные в расовом и культурном аспектах германо-скандинавский, балтский, славянский миры? Какие основания для того, чтобы сама традиция европейской философии и её производных в виде права, эстетики, литературной традиции зародилась именно там, а не где-либо ещё?
Философия рождается, когда умирает миф. В соответствии с этим мы можем сказать, что она рождается там, где умирает миф. Теперь вопрос о начале европейской цивилизации и, говоря точнее, о начале влияния античности, её экспансии и её способности к вытеснению и замещению иных, отличных от неё культур напрямую становится связан с утратой индоевропейского мифа, а говоря иначе – с отступлением от Традиции. И мы должны будем поразмыслить над этим явлением, осознав его как катастрофу мифа.
Согласно преданиям, как античным, так и средневековым, первородная династия на определённом историческом этапе оказалась связанной с Троянским царством. Именно его падение знаменует эту катастрофу. Ранее нами были высказаны предположения о Традиции исторической Трои, как той, что продолжаетТрадицию изначального монотеизма. Падение династии Приамидов, за которым последовала утрата этой Традиции, может поэтому рассматриваться как катастрофа не только династическая, но и как религиозная. Вместе с падением Трои индоевропейцы утрачивают свою Священную Традицию – колыбель изначального мифа.
В первой половине XX века была довольно популярна теория, согласно которой все народы можно разделить на три группы, а именно: 1) основателей культуры, 2) носителей культуры и 3) разрушителей культуры. В оптике данной теории в качестве основателей культуры, как правило, выступают народы индоевропейские. Причём в той части, что касается древности, отмечается и то, что расцвет культуры наблюдается именно там, где относительно небольшое число завоевателей сталкивается с аморфным автохтонным субстратом. В качестве объяснения этого феномена было высказано предположение, что народами, приведёнными в покорность, индоевропейцы просто возмещали недостаток технических средств для осуществления своих грандиозных планов.
На первый и поверхностный взгляд эта схема кажется исчерпывающей и очень наглядной. Несмотря на то, что степень знакомства с индуизмом среди европейцев в первой половине XX века оставляла желать лучшего, предложенная модель находит свои метафизические основания в индуистском концепте «Трёхликости» (Тримурти). Согласно этому учению, духовное начало мира манифестирует в трёх аспектах: Брахма – творец мира, Вишну – хранитель мира и Шива – разрушитель мира. На этом основании, конечно, можно было бы строить некоторые теории. В частности, касаясь вопроса о генезисе той же индийской цивилизации, мы можем надёжно связать её начало с племенами ариев, которые покорили местные автохтонные дравидийские племена и которые в конечном итоге пали под гнётом тюркско-мусульманских завоевателей (империя Великих Моголов). Распределение ролей «основателей», «хранителей» и «разрушителей» в данном случае очевидно. Но не будем спешить с выводами, поддаваясь очарованию стройности и простоты вышеозвученного концепта, и для начала рассмотрим историю «основателей» подробнее.
Путь ариев по Евразийскому материку прослеживается очень надёжно по лингвистическим и историческим источникам. Начинается он на Русском Севере, где мы встречаем многочисленную индоарийскую гидронимику, далее мы прослеживаем её же в Северном Причерноморье. Это река Кубала в Вельском уезде – Кубань в Причерноморье – Кабул в Афганистане – Кубха в Индии; Индега и Синдош на Русском Севере – Синдика – Тамань Причерноморья – реки Синд, Инд в Индии; река Варз в Архангельской губернии и река Варсак в Пакистане; Дан в Вологодской губернии – Дон, Днепр, Дунай в Причерноморье – Дану (река в Ригведе). Ещё далее мы находим ту же гидронимику в Малой Азии (река Инд, современное название Даламан), и, наконец, мы впервые встречаем ариев в исторических источниках, в Палестине, около 1380 г. до Р. Х. В первую очередь об их пребывании там рассказывают документы хуррито-арийского государства Митанни. Далее их путь лежал в северо-западную Мидию, в область вблизи озера Урмия, рядом с которым было известно государство Матиена (варианты упоминания у греческих и римских авторов – Martiane, Matiane, Matiene), а уже оттуда – на полуостров Индостан.
Пример ариев, думается, достаточен для того, чтобы показать, как на пути с севера на юг и с запада на восток они выступали создателями государств и распространителями присущей им культуры. Но не только это. Не менее важно и другое. Когда этот импульс ослабевает, мы повсюду начинаем наблюдать стагнацию и постепенное увядание, которое можно определить также и как «возвращение автохтонов к собственным корням». Что же нас интересует в первую очередь в вышеописанных исторических феноменах? То, что на Севере теми же индоиранцами не было создано никакой великой культуры, равно как и то, что на всех их промежуточных прародинах мы также не видим значимых материальных последствий их пребывания. Только оказавшись в историческом и географическом тупике, они создают великую цивилизацию Бхараты. И вот здесь, думаю, самое место для того, чтобы озвучить предположение, мимо которого постоянно проходит секуляризированное научное сознание. Дело не в расе или географии, а во времени. Индийская ветвь ариев появляется в Бхарате около 1100 г. до Р. Х. – об их присутствии свидетельствует т. н. культура серой расписной керамики, которая затем прослеживается в долине Ганга вплоть до 350 г. до Р. Х. Это время падения Трои. События, знаменующие конец последней цитадели изначальной индоевропейской Традиции и начало расцвета ведической культуры Индии синхронны! Так же, как практически синхронно призвание на царство потомка среднего сына прародителя Ноя – царя Давида.
Дело в том, что боковая ветвь изначального царского рода (в нашем примере – ветвь ариев-индоиранцев) достигает своего расцвета, только когда увядает главная. Лишь в этом случае она становится плодоносной и способной к инициации нового скачка цивилизации на подчинённом ей континенте. И чем более архаичной является она сама, а также чем более приближёнными к «осевому меридиану истории» лежат подчинённые ей земли, тем более исторически значимыми становятся последствия автаркии её власти.
Итак, существует осевая история, и эта история связана с перемещением по Евразийскому континенту ветви первородных царей. Там, где находятся они, творится событийный ряд, который определяет решительным образом дальнейшее существование мира. Там, откуда они уходит, наступает увядание. И сегодня, делая существенные поправки к историософским исследованиям начала прошлого столетия, мы можем говорить не о биологической, а именно о религиозно-династической движущей силе истории. Той Силе, которая в иранской традиции именовалась «фарн» и которая изображается на православных иконах в виде нимба. В своё время, покинув Приамидов, она частично манифестировала в боковых ветвях индоевропейского племени, а во всей доступной тогда полноте – в роде царя Давида до той поры, пока, по словам пророка, не пришёл Искупитель и право власти не вернулось потомкам Приамида – Аскания (Юла).
Глил ха гоим. Проблема индоевропейской идентификации
В чём заключается основной упрёк христианству среди людей, которые не желают примириться со «смертью Бога», для которых одинаково неприемлем и мир абсурда, и мир бесконечного потребления – двух альтернатив, предлагаемых современностью взамен Традиции? Поверьте, это не «зажравшиеся и развратные попы». Это не алогичный, умо-не-постигаемый предмет христианской веры. Это даже не проповедь христианского милосердия в мире, наполненном жестокостью и несправедливостью. Это вопрос родового происхождения. Многие видят в христианской Традиции, рассматриваемой как явление культурно-историческое, пропаганду особой роли истории и культуры Ближнего Востока в целом и еврейского народа в частности. И, как следствие, уничижение культурно-исторической роли иных мировозренческих идентичностей. Собственно это, а не что-то иное питает многочисленные ныне неоязыческие реакции и секты. И так будет продолжаться, пока ситуация, в которой вопрос задан, а внятного ответа нет, будет оставаться актуальной действительностью.
Думается, наиболее последовательную позицию в радикальном разрешении внутри себя этого «культурального кризиса» занимала Максимиани Джулия Портас. Решив порвать радикально со всякими проявлениями исторического наследия аврамических народов, она, не выдумывая лукавых оправданий, вышла замуж за представителя древнего рода брахманов. Так, войдя в семью мужа и приняв новое имя Савитри Деви, она одновременно стала легальным представителем индуизма – религиозного культа, исторически связанного с индоиранской ветвью индоевропейцев. И, как видится, это единственный путь обретения причастности к «индоевропейской вере», и, разумеется, открыт он только женщинам. Притом что данное утверждение оказывается верным только в том случае, если мы не ставим под сомнение инициатическую составляющую индуизма в целом, но и это, на самом деле, крайне проблематично.
Не думаю, что её удовлетворяло актуальное состояние индуистской традиции. Рассматривая языческие религиозные системы, многие современные исследователи до сих пор не могут понять простую вещь: семантическая неопределённость индоевропейского язычества в целом и индуизма в частности – это не следствие недостаточной осведомлённости или не очень умной реконструкции, а его сущностная черта. Именно в силу этой семантической неопределённости и забвения в Индии как попытка преодоления упадка Традиции появились многочисленные школы трактовки древних вед и комментарии к ним, в конечном счёте послужившие основой для появления современного индуизма как совокупности существенно отличающихся сект, у которых нет единого учения и о некотором единстве которого можно говорить лишь в отношении общего свода текстов и наиболее распространённых обрядов и святых мест. Но ни о каком согласии или всеобщности в содержании учения даже речи идти не может. В нём нет не только согласия в отношении перевода ведических текстов, но существуют значительно отличающиеся философские школы, каждая на свой лад представляющие метафизическую картину мира (санкхья, мимамса, йога, вайшешика, веданта, ньяйи и пр.). И, как писал один из крупнейших исследователей вед Б. Г. Тилак, сам являясь брахманом: «Яска говорил о трёх или даже четырёх школах переводов, в каждой из которых по-своему понимали природу и характер ведических богов. Так, в одной из них нас уверяли, что многие ведические боги были историческими персонажами, обожествлёнными в силу их сверхъестественных добродетелей и подвигов. Другие теологи делят богов на „Карма-дэватис“, то есть тех, кто обрёл состояние божественности в результате своих деяний, и „Аджана-дэватас“ – тех, кто был богом по рождению. А последователи школы Нирукты (этимологи) утверждают, что ведические боги были воплощениями некоторых космических или физических феноменов, таких, к примеру, как появление зари или рассекание тучи молнией. На свой особый лад объясняли суть богов приверженцы школы Адхъят-мики, да кроме них есть и другие методы этих разъяснений».
Поэтому, если опустить поэтическую риторику, язычество, которое есть внешнее обрядовое выражение живого пантеистического хаоса, не поддаётся точной дефиниции и представляет собой смешение различных воззрений и обрядовых установлений, смысл которых, как правило, утрачен или, по меньшей мере, сильно искажён.
Но всё это касается лишь критики индуизма и не продвигает нас в главном вопросе – что получила Максимиани Портас и те, кто идёт вслед за ней, в таком вот способе разрешения этого «культурального кризиса»? А между тем ответ очевиден. Самоощущение себя в лоне индоевропейской традиции. Да, испорченной временем, местами откровенно извращённой, но индоевропейской! Некая возможность открытия пути к собственным корням, к периоду, предшествующему приходу ариев в Индию и даже распаду индоевропейского континуума. Обозначим эту гипотетическую возможность, как «сверх-индуизм». Другими словами, не удовлетворяясь актуальным состоянием индуизма, пропитанного чуждыми индоевропейцам влияниями автохтонной культуры дравидов, европеец (и русский) ищут на землях Бхараты этого самого «сверх-индуизма», возможности легитимного (= инициатического) доступа к интегральной индоевропейской традиции. «Культуральный кризис», безусловно, сохраняется, но он как бы смягчён обещанием гипотетической возможности, которая звучит из общности корней индуизма и европейского «язычества».
Мы уже говорили, что индийская ветвь ариев появляется в Бхарате около 1100 г. до Р. Х. и существует там в относительно изолированном виде вплоть до 350 г. до Р. Х. Но тогда должны ли будут те, кто ищет «арийской мудрости» внутри индийской религиозной культуры, признать и особую роль дравидов, как хранителей их собственной Традиции на протяжении трёх тысяч лет, с момента появления на Индостане ариев и до настоящего времени? Видимо, да.
А что происходило в это время на исторически христианских территориях, в Палестине? Момент появления ариев в Индии (1100 г. до Р. Х.) точно совпадает с временем окончательного забвения изначального монотеизма в среде «народов моря». Мы уже говорили, что события, знаменующие падение последнего бастиона изначальной индоевропейской Традиции и начало расцвета ведической культуры Индии, синхронны. Так же, как практически синхронно призвание на царство потомка среднего сына прародителя Ноя – царя Давида.
Признаёт ли христианство особую историческую роль Израиля? Безусловно, да. Но эта «особая роль» также ограничена вполне определёнными временными рамками, которые не превышают тысячи лет. В сравнении со 120 тысячами лет существования Homo sapiens и 40 тысячами лет существования постверхнепалеолитической культуры это не такой уж длительный период. В принципе, тысячей лет исчерпывается не только религиозно обусловленная особая роль Израиля, но в течение того же времени сами русские исповедуют православную веру.
Теперь мы должны признать, что роль дравидов в сохранении индоевропейской сакральности в Индии и роль евреев в сохранении изначальной человеческой или, если угодно, праиндоевропейской сакральности в Палестине практически идентичны.
Мы не будем здесь вдаваться в подробности того, почему, на наш взгляд, православный Предмет веры предпочтительнее индуистского комплекса верований. Это отдельный и большой вопрос, касающийся сомнений в аутентичности линии инициатической передачи в индуизме. Здесь мы не преследуем цели критики индуизма, для нас непосредственный интерес представляет иное.
Возможно ли, оставаясь в рамках ортодоксального христианства, иметь самоощущение культурального присутствия внутри индоевропейской идентичности? Отбросив всякое лукавство, мы должны констатировать, что этот вопрос напрямую связан с вопросом о «национальности» Спасителя по человечеству. Его мы и коснёмся. Вопрос о происхождении Спасителя и Его Пречистой Матери «по крови» стал доступен для христианского преспеяния только с конца XIX – начала XX века, т. е. тогда, когда сама проблема национальной идентификации начала приобретать свою актуальность. Это связано с падением традиционных монархий. Человек в своём социальном аспекте перестал быть подданным монарха и превратился в представителя определённого народа. Конечно, нам могут возразить и сказать, что и во время монархий существовали народы, а значит, и их представители. Это, разумеется, так, существовали. Изменились не народы, изменился характер осмысления принадлежности к ним. Если до XIX века право народа было иерархически подчинено имперской присяге, то после национальная самоидентификация стала самодостаточным историческим фактором, что в итоге и породило многие политические (иногда страшные) тенденции XIX–XX веков.
Так было сто лет назад. Но ситуация меняется стремительно. Сейчас, в условиях повсеместного диктата либеральной идеологии, народ уже потерял своё право определения путей общества и человека, отдав его индивидууму. Народ отныне не обладает никакими правами – он только сумма, совокупность атомарных индивидуумов. Наш вопрос уже несколько припозднился. Именно поэтому даже среди клира и набожных людей очень часто можно встретить мнение, что он уже вовсе не имеет значения. Что ж, либеральная идеология тотальна, и православный клир тоже представитель своего времени и его идей. Однако следует напомнить, что случается с народами, которые силой исторических судеб были вынуждены «перепрыгнуть» без должного осмысления важные этапы своего развития. Многие их представителиобретаются ныне в огромных мегаполисах, живя на нищенское пособие и мелкий полукриминальный заработок. Если мы не хотим себе такой судьбы, то должны осмыслить этот вопрос как можно полнее и на самом высоком уровне, т. е. исходя из собственной религиозной традиции.