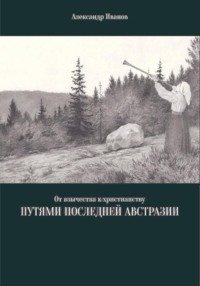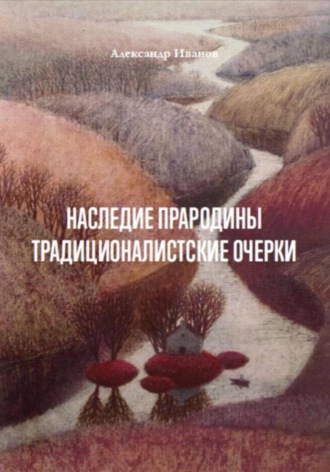
Полная версия
Наследие прародины. Традиционалистские очерки
В связи с этим Клаудио Мутти в упомянутом докладе отмечает следующее: «В „солярном монотеизме“, который при Аврелиане (274 г.) становится официальной религией Римской империи, Аполлон отождествляется с Гелиосом, чье латинское имя Sol напоминает прилагательное solus „единственный“). В эпоху Константина фигуры солнечных Богов – Аполлона и Sol Invictus („Непобедимое Солнце“) – появляются на монетах и рельефах триумфальной арки. […] С исторической точки зрения солярная теология […] находит своё место в зрелой стадии неоплатонизма, в фазе, когда доктринальные идеи этой духовной школы уже объединены. Основатель школы Плотин (204–270) определяет Единое как принцип бытия и центр вселенской возможности, в то время как его последователь Порфирий из Тира (233–305) внёс вклад в солярную теологию своим трактатом „К Солнцу“. Этот текст потерян, однако цитируется в „Сатурналии“, где Макробиус, соотносящий Аполлона, Либера, Марса, Меркурия, Сатурна и Юпитера с солнечным принципом, говорит, что, по словам Порфирия, „Минерва есть Сила Солнца, придающая направление человеческим мыслям“. В трактате „О философии из оракулов“ Порфирий цитирует ответ Аполлона, в соответствии с которым существует лишь один Бог – Эон („Вечность“), в то время как другие боги не что иное, как его ангелы».
Теперь, когда мы представили основные черты культа Аполлона – Гелиоса – Феба, мы можем констатировать, что в рамках системы религиозного генотеизма именно этот культ закономерно тяготеет к монотеистическому толкованию, претендуя на воплощение принципа Единства для всей возможной нуминозной множественности. Именно эта характерная черта в эпоху поздней античности послужила основанием к распространению многочисленных синкретических культов солярного божества по всей Римской империи. Но именно это «тяготение к монотеистическому толкованию» одновременно указывает на характер Его культа во времена, предшествующие торжеству принципа множественности в народах и племенах, во времена существования Изначального народа и бытования его Изначальной прародины.
Теперь обратимся к собственно русской православной Традиции. Митрополит Климент Смолятич (с 1147 по 1154 год) в своём «Послании к Фоме», отвечая на упреки «ревнителей благочестия», признаёт, что «…писах от Омира, и от Аристотеля, и от Платона, иже во елиньскых нырех славнее беша», показывая тем самым незазорность обращения к индоевропейской мудрости при правильном методологическом подходе. Прошла уже почти тысяча лет, а упрёки всё те же, впрочем, и обращение к мудрости предков тоже. И раз уж тогда, в XII в. по Р. Х., это было возможно, то и сегодня обращение к тексту Гомера («Омира») не будет бесполезным, а, на наш взгляд, должно стать необходимым.
Речь пойдёт о ещё одном косвенном доказательстве праиндоевропейского монотеизма, основанном на толковании очень известного, но совершенно непонятного исторического эпизода, о котором сообщает Гомер. А именно – об истории о «троянском коне». Мы не будем здесь пересказывать её целиком – она известна практически всем. Начнём сразу с того, что невероятность описанного Гомером события ставила в затруднение самих греческих авторов. Об этом говорит, в частности, восемнадцатая речь вифинца Диона Хрисостома, посвящённая Троянской войне (II в. по Р. Х.): «…ахейцы, принёсшие посвятительный дар Афине с подобающей надписью, как обычай велит побеждённым, – эти ахейцы тем не менее будто бы взяли Трою, а в деревянном коне смогла спрятаться целая рать! Трояне же, заподозрив неладное и порешив сжечь коня или разрубить его на куски и всё-таки ничего этого не сделав, пируют себе и засыпают, хотя Кассандра всё это им предрекала. Разве не напоминает это, по правде сказать, сны и вымыслы несусветные?»[6]
Выше в той же речи Дион приводит собственную реконструкцию событий: «После того как дали о том клятвы [как он же говорит в другом месте, „что ни эллины никогда не вторгнутся в Азию, покуда в ней правит род Приама, ни Приамиды не пойдут войной против Пелопоннеса“. – А. И.] и конь – громадное обетное сооружение – воздвигнут был ахейцами, трояне подвели его к городу, а поскольку в ворота он не проходил, снесли часть стены. Вот откуда смехотворный рассказ о взятии города конём. А войско ахеян, заключив договор на этих условиях, покинуло страну».
Мы, разумеется, представим свою версию эпизода этого «кровавого индоевропейского спора». И сначала вспомним, какие ассоциации в контексте дохристианской индоевропейской сакральной Традиции несёт сам образ коня с заключёнными внутрь людьми.
В своих «Записках о галльской войне» Гай Юлий Цезарь сообщает среди прочего о практике человеческих жертвоприношений в среде кельтов: «Именно галлы думают, что бессмертных богов можно умилостивить не иначе как принесением в жертву за человеческую жизнь также человеческой жизни. У них заведены даже общественные жертвоприношения этого рода. Некоторые племена употребляют для этой цели огромные чучела, сделанные из прутьев, члены которых они наполняют живыми людьми; они поджигают их снизу, и люди сгорают в пламени. Но, по их мнению, ещё угоднее бессмертным богам принесение в жертву попавшихся в воровстве, грабеже или другом тяжёлом преступлении; а когда таких людей не хватает, тогда они прибегают к принесению в жертву даже невиновных» (VI,16)[7].
Подобные известия сохранились и о славянах. Для примера можно вспомнить сообщения «Повести временных лет», касающиеся попыток реанимации язычества Владимиром Святославичем накануне принятия Русью христианства; также и сообщения греческих авторов о принесении в жертву военнопленных его отцом Святославом. Не будем перегружать текст цитатами. Каждый, кто в состоянии хотя бы с малой степенью беспристрастной критики относиться к истории, не станет «обелять» славянское язычество. В данном случае важно другое. А именно – что все эти свидетельства единогласуют с сообщением Цезаря о кельтах, конкретно о том, что в жертву богам, как правило, приносились преступники и военнопленные. Ещё раз подчеркнём: отрывок из «Записок…» Цезаря особо важен для нас тем, что рассказывает об одной конкретной форме жертвоприношения, связанной с изготовлением чучела из деревянных прутьев, в которое помещали нескольких людей. Это культовая практика кельтов по форме очень напоминает троянского коня, внутри которого, согласно античному мифу, находились греческие воины.
В ведической традиции известен ритуал ашвамедха (asvamedha), который практиковался исключительно царями. О назначении ритуала рассказывается в Ригведе (I, 162, 22):
Пусть боевой конь [принесёт] нам прекрасных коров,прекрасных коней,Детей мужского пола, а также богатство, кормящее всех!Пусть Адити создаст нам безгрешность!Пусть конь, сопровождаемый жертвенным возлиянием,добудет нам власть!(Перевод Т. Я. Елизаренковой)При этом ритуал ашвамедхи повторяет пурушамедха как по форме, так и по исполнению. Пурушамедха названа так в честь первочеловека Пуруши. Также и всадники – Ашвины, божественные близнецы – повторяют образ Пуруши. В перспективе изначальной традиции они синонимичны, поскольку в реконструируемом индоевропейском мифе о божественных близнецах (Διοσχουροι – Диоскуры, «Сыновья Бога-Дия-Зевса» в греческой традиции; Divonapata – «Сыновья Бога неба» в древнеиндийской традиции; Dievosuneliai – «Сыновья Бога» в литовской традиции) один из них обладает божественной, а другой – человеческой природой. Это равносильно соединению Божества и творения – образу, который являет со-бытие Бога и мира и полноту всего. Этот же образ являет индоарийский Вишведева (букв. «Все боги»), которого иначе ещё называли Вишвакарман (букв. «Отец всего»). Чтобы сотворить мир, он приносит в жертву сам себя. Ближайшую типологическую параллель данному образу являет славянский Родъ. Вишведева и Вишвакарман неоднократно упоминаются в Ригведе, которая, как известно, донесла до нас наиболее архаичные пласты древнеиндийской традиции. В своей функции творца Вселенной Вишвакарман идентичен первочеловеку Пуруше, из частей тела которого богами создаются основные объекты мироздания и сословия древнеарийского общества. Теперь становится понятным свойство Пуруши «быть отцом своим родителям» – Небу (Дьяусу) и Земле (Притхиви), от которых, в свою очередь, происходят все другие божества – собственно Вишведева.
Существенной частью ведического ритуала являлось то, что коня или человека в течение года водили по разным землям, которые должны были после этого стать частью владений царя, совершающего жертвоприношение. Троянский конь, согласно греческим и римским источникам, попадает в город во время военного противостояния. И это имеет прямое отношение к поражению Приамидов и торжеству Атридов. Учитывая параллели с ведической культовой практикой, ввоз коня в город является частью ритуала, утверждающего падение Троянского царства и укрепление властных полномочий греков. Так об этом говорится в «Одиссее» (VIII, 492–520):
Ну-ка, к другому теперь перейди, расскажи, как ЕпеемС помощью девы Афины построен был конь деревянный,Как его хитростью ввёл Одиссей богоравный в акрополь,Внутрь поместивши мужей, Илион разоривших священный.Если так же об этом ты всё нам расскажешь, как было,Тотчас всем людям скажу я тогда, что бог благосклонныйДаром тебя наградил и боги внушают те песни.Так он сказал. И запел Демодок, преисполненный бога.Начал с того он, как все в кораблях прочнопалубных в мореВышли данайцев сыны, как огонь они бросили в стан свой,А уж первейшие мужи сидели вокруг ОдиссеяСредь прибежавших троянцев, сокрывшись в коне деревянном.Сами троянцы коня напоследок в акрополь втащили.Он там стоял, а они без конца и без толку кричали,Сидя вокруг. Между трёх они всё колебались решений:Либо полое зданье погибельной медью разрушить,Либо, на край притащив, со скалы его сбросить высокой,Либо оставить на месте как вечным богам приношенье.Это последнее было как раз и должно совершиться,Ибо решила судьба, что падёт Илион, если в стеныПримет большого коня деревянного, где аргивянеБыли запрятаны, смерть и убийство готовя троянцам.Пел он о том, как ахейцы разрушили город высокий,Чрево коня отворивши и выйдя из полой засады;Как по различным местам высокой рассыпались Трои,Как Одиссей, словно грозный Арес, к Деифобову домуВместе с царем Менелаем, подобным богам, устремился,Как на ужаснейший бой он решился с врагами, разбившиВсех их при помощи духом высокой Паллады Афины.(Перевод В. А. Жуковского)Троянцев предостерегают собственные пророки и жрецы «Яблоневого Бога» (Аполлона) – Лаокоон и Кассандра, но их не слышат. Об этом пространно рассказывает Вергилий в своей «Энеиде» (II, 40–56, 246–247):
Тут, нетерпеньем горя, несётся с холма крепостногоЛаокоонт впереди толпы многолюдной сограждан,Издали громко кричит: «Несчастные! Все вы безумны!Верите вы, что отплыли враги? Что быть без обманаМогут данайцев дары? Вы Улисса не знаете, что ли?Либо ахейцы внутри за досками этими скрылись,Либо враги возвели громаду эту, чтоб нашимСтенам грозить, дома наблюдать и в город проникнуть.Тевкры, не верьте коню: обман в нём некий таится!Чем бы он ни был, страшусь и дары приносящих данайцев».Молвил он так и с силой копьё тяжёлое бросилВ бок огромный коня, в одетое деревом чрево.Пика впилась, задрожав, и в утробе коня потрясённойГулом отдался удар, загудели полости глухо.Если б не воля богов и не разум наш ослеплённый,Он убедил бы взломать тайник аргосский железом, —Троя не пала б досель и стояла твердыня Приама.[…]Нам предрекая судьбу, уста отверзала Кассандра, —Тевкры не верили ей, по велению бога, как раньше.(Перевод С. А. Ошерова)Почему троянцы не слышат жрецов Аполлона? На этот, наверное, самый важный вопрос, мы никогда не сможем найти ответа в источниках историографии. И не потому, что они очень скудны или отсутствуют вовсе, а в силу их собственного характера. События истории – это лишь отражения глубинных, бытийных событий. Перефразируя Ф. Ницше, мы можем сказать, что троянский Бог умер, так же, как позже это произойдёт на Западе с Богом христианским. На самом деле, разумеется, Бог не может умереть или уйти; но Он может умереть для человека, если человек уйдёт от Него. То же самое касается народов и рас. Троянцы ушли от своего Бога. Неотмирный Свет Феба стал более недоступен для человека. А Троя – столица «царей-волхвов» – превратилась в место запустения. Вскоре после падения Илиона потомки его народа начнут исповедовать божественность творения не в аспекте нераздельной связи мира и Абсолюта, не в акте свободы и любви, а как обязательное, ничем не обусловленное качество самой множественности мира. Затем на место Лучезарного Феба придут сонмы титанов, и молитва народов Севера окончательно умолкнет. Умолкнет более чем на тысячу лет. Но ранее это уже случилось с греками. На момент начала войны им уже известно то, что ведические арии именовали пурушамедхой. Изначальное Предание о заклании Богочеловека, которое, согласно Откровению Иоанна Богослова, произошло «от создания мира», было искажено и нашло своё непосредственное выражение в ужасной культовой практике. Поэтому и крестная жертва Христа – это одновременно и восстановление изначальных пропорций, и замещение демонических практик. Точно так же древнейшее пророчество о рождении царицей сына Спасителя без участия земнородного отца в самой извращённой форме засвидетельствовано у пунийских язычников; а именно в том, что, согласно собственной традиции, они приносили в жертву «богам» первенцев и тем самым, с одной стороны, как бы подчёркивали их возможную божественность, а с другой – как бы предотвращали саму возможность явления Спасителя. Ещё раз подчеркнём, что в данном случае важность для нас представляет не моральный контекст, в котором зародилось известное выражение Катона Старшего: «Carthago delenda est, Ceterum censeo Carthaginem delendam esse»; думаю, да – непременно должен! Но именно глубинная подоплёка, касающаяся не Рима и Карфагена только, а всей истории этого мира.
Так же, как в случае Пунических войн, за ширмой военного конфликта скрывается война мировоззрений. И если во II–III вв. до Р. Х. римляне сохраняли лишь жалкую тень изначальных сакральных представлений и осуждали своих врагов главным образом на уровне геополитики и человеческой морали, то во времена противостояния ахейско-данайского союза вождей с Троянским царством, в XIII в. до Р. Х., метафизическая подоплёка брани была ещё достаточно очевидна.
Нам сейчас вряд ли удастся реконструировать события падения Троянского царства во всей их полноте и ясности. Но тот факт, что грекам уже в то время не были чужды человеческие жертвоприношения, типологически и генетически связанные с ведической ашва- и пурушамедхой, сомнений уже не вызывает. Явное противопоставление языческого греческого культа троянскому говорит о содержании последнего лишь косвенно. Культ троянского коня отрицает саму Трою, в конечном счёте разрушает её. Тем самым он очерчивает некое неизвестное пространство скрытой исторической тайны, которая, как цитадель, возвышалась некогда посреди хаоса смешения языческого мира. И имя ей – троянский монотеизм.
Теодинастические параллели
Ещё одно доказательство троянского монотеизма мы можем обозначить как «теодинастическое». Дело в том, что общим местом практически всех родословных древнейших индоевропейских династий является как раз факт происхождения от царей Трои. Принадлежность к потомкам Приама выступает в дальнейшем как подтверждение права на царство. Если мы сопоставим этот генеалогический материал с библейской традицией, то придём к выводу о принадлежности самого Приама к старшей линии потомков Йафета, а через него – Ноя, прародителя послепотопного человечества. Это право «старшинства» потомки Йафета утратили тогда, когда право царской власти перешло к потомку Сима – Давиду, а сама эта утрата непосредственно связана с отступлением потомков Йафета от веры в Единого Бога. Мы можем заключить это уже из того, что пеласги-филистимляне (которые, несомненно, являлись частью единого культурного круга, центром которого выступала Троя) во времена святого царя Давида, согласно Священному Писанию, уже отступили от собственной веры и, утратив свой язык, поклонялись местным западносемитским божествам: Дагону в Газе и Азоте, Ваал-Зебубу, Астарте и Деркето в Аккароне. У пророка Неемии азотское наречие – это уже один из семитских диалектов. Исторические и археологические данные указывают также на совпадение во времени двух событий – падения Трои (1300–1200 гг. до Р. Х.) и Откровения, которое было дано Моисею, и оба этих события примерно на 200 лет предшествуют воцарению Давида.
В «Путях Австразии» говорилось: «Если мы проследим потомков Урана и Геи, прилагая к их родословному древу принципы престолонаследия, а именно первородство и передачу права наследования по мужской линии, то через Океана и Тефиду придём к Инаху (греч. Ιναχος) и его потомкам; поскольку среди 38 их детей было 22 сына и только от одного из них происходят потомки, имена которых мы можем связать с исторически засвидетельствованными этносами. […] Согласно Павсанию („Коринфика“ 15,6), первым человеком […] был Фороней, а Инах не был человеком, а рекой, и был отцом Форонея… Фороней, сын Инаха, был тем, кто впервые соединил людей в общество…»
Павсаний также называет сыном Форонея – Кара, прародителя карийцев и их царей, с которыми в других преданиях тесно связаны Лид, Мис, Лелег, Пеласг и соответствующие им народы: лидийцы, мисийцы, лелеги и пеласги. Таким образом, Инахиды полагают начало всем династиям культурного круга Древней Эгеиды и не только её[8].
Непосредственно троянские цари относятся к потомкам изначальной супружеской пары – Урана и Геи – через титана Иапета, второго по старшинству сына Урана. В библейской традиции ему соответствует Йафет. Сия же суть бытия сыновъ Ноевыхъ Сима Хама и Йафета, и родишася имъ сынове по потопе. Сынове Йафетовы: Гемеръ, и Могогъ, и Мадай, Иованъ, и Елиса, и Фовалъ, и Мосохъ, и Фирасъ. Сынове же Гемеровы: Асханазъ, и Ривафъ, и Формагъ. Сынове же Иовани: Елиса и Фарсисъ, Критьстьи и Родъстьи. Отъ сихъ разделишася острови странъ всехъ въ земли ихъ, кождо по языкомъ и рожденияхъ и въ странахъ ихъ (Быт. 10: 1–5).
Находясь в тесных связях с вышеупомянутым культурным кругом, в частности с народом «палустья» – филистимлянами-пеласгами, автор книги Бытия, разумеется, отмечает наиболее актуальные для него родословия, которые, как думается, «были на слуху» именно на территориях Передней Азии и Ближнего Востока. Иначе говоря, священное индоевропейское предание упоминало потомков Йафета в ещё не испорченной забвением многобожия форме, и это было отражено в западносемитском Священном Писании вполне адекватно.
Собственно, к нашему вопросу имеют отношение ещё три цитаты из книги Бытия. Приведём их в вариантах наиболее авторитетных изводов Библии, а именно Острожского (1581 г.) и Елизаветинского (1751 г.). Итак, первая цитата: И бе Ное летъ 500, и роди сыны три, Сима, Хама, Иафета /И бе Ное летъ пяти сотъ, и роди сыны три, Сима, Хама, Иафета (по Острожской Библии 6:1, по Елизаветинской Библии 5:32 соответственно). Вторая: Симу бе 100 летъ, егда роди Арфаксада, въ второе лето по потопе /И бяше Симъ сынъ ста летъ, егда роди Арфаксада, во второе лето по потопе (Быт. 11:10). И, наконец, третья: Въ 600 лето жития Ноева, втораго месяца в 27 день, въ сий день разъверзошася вси источницы бе земныя, и хляби небесныя отверзошася /Въ шестьсотное лето въ житии Ноеве, втораго месяца, въ двадесять седмый день месяца, въ день той разверзошася вси источницы бездны, и хляби небесныя отверзошася (Быт 7:11). Из приведённых цитат следует, что Ной начал порождать сыновей, когда ему было пятьсот лет. В шестисотый год его жизни произошёл потоп. Причём дата потопа указана очень точно и включает даже месяц и день. Поэтому логично предположить, что и остальные даты предполагают точное, а не примерное прочтение. Значит, его старшему сыну в момент потопа было ровно сто лет. В то время как Симу сто лет исполнилось только через два года после потопа. Другими словами, в момент потопа ему было девяносто восемь лет, и он на два года младше своего старшего брата. И далее для окончательного прояснения вопроса о возрастных отношениях сыновей Ноя мы прибегнем ещё к одной цитате по Острожскому и Елизаветинскому спискам: Симу бывшу тому отцу всех сынов Еверовых, брату Афетову старейшему /И Симу родися и тому, отцу всехъ сыновъ Еверовыхъ, брату Иафета старейшаго (Быт. 10:21). Если в первых трёх цитатах разночтения незначительны и не вносят совершенно никакого семантического отличия, то здесь оно налицо. Острожский текст позволяет отнести определение «старейший» как к Симу, так и к Йафету. Тогда как Елизаветинский текст недвусмысленно сообщает о том, что старшим сыном Ноя являлся именно Йафет. Памятуя о том, что сообщают нам первые три цитаты, мы можем констатировать, что в целом текст книги Бытия читается как цельный и внутренне логичный именно в свете утверждения старшинства Йафета. Так мы приходим к окончательному заключению, что старшим сыном Ноя являлся Йафет, средним Сим и самым младшим Хам.
В лингвистической реконструкции имя Ноя воспроизводится как праиндоевропейское *Nahwo – «лодочник», «корабел», «кормчий». По мнению И. К. Гаршина, библейское имя Ной происходит от индоевропейского *nahw – «лодка», «судно» (отсюда латинское na: uis – «судно», древнеиндийское na: u – «судно», «лодка», древнеирландское nau – «судно», «корабль», древнеисландское nor – «судно», древнеанглийское no: wend – «мореход». Мы можем связать его с Ιναχος’ом, имя которого известно из греческой традиции как имя прародителя и одноименной реки. Йафета можно отождествить с титаном Ιαπετος’ом. Фарсиса можно связать с Персеем (Περσευς), который этрускам был известен как Фарсифай. В поздней языческой греческой традиции он выступает как прародитель царей Аргоса. По-видимому, первоначально он мыслился не только как прародитель пеласгов Пелопоннеса, но всех пеласгов вообще. Елиса мы можем отождествить с Eλλην’ом, который, согласно греческой традиции, родился у Девкалиона и Пирры после потопа, и которые, в свою очередь, также являлись потомками Иапета. Священное Писание также указывает на потомков Фарсиса, как изначальных жителей Крита и Родоса, что, собственно, не противоречит историческим источникам о происхождении «народов моря».
Непосредственное знание об этой родословной и его актуальная значимость очень ясно запечатлелись в чаяниях Александра Великого. Их хорошо описала Максимиани Портас: «Этот последний [Александр. – А. И.], хотя и был пан-эллинистом, лучше, чем кто-либо другой из своих наиболее образованных современников, осознавал необходимость преодоления строго эллинского патриотизма, радикального различия между греком и не-греком, выраженного словами: Pasmen Hellen Barbaros („Кто не грек – тот варвар“). Между тем вместо того, чтобы подавать пример интернационализма, что, без сомнения, хотели бы приписать ему многие идеологи современности, он провёл чёткую грань между категорией не-греков и иных народов. Он подталкивал своих чистокровных македонцев к тому, чтобы сочетаться браком с персидскими женщинами – такими же арийками, как и они сами, просто говорящими на другом языке и имеющими отличные от греческих обычаи… И две его собственные инородные жены были арийской крови»[9].
Известно, что он не желал смерти Дария III Ахеменида, намереваясь сделать его своим соправителем. Обычно современные исследователи видят в этом лишь «политическую гибкость». Правда заключается, конечно же, в ином. А именно в том, что Александр очень жёстко придерживался династического права, и его род Аргеады через царя Аргоса и Дориды Темена (Τεμενος’a) принадлежал к Гераклидам, которые, в свою очередь, также, как и Ахемениды, являлись ветвью от Персея-Фарсифая. Т. е. и тот, и другой в конечном итоге происходили от одной изначальной индоевропейской династии.
Согласно римскому мифу, предок Юлиев Асканий Юл († приблизительно в 1138 году до Р. Х.) ведёт свой род от Энея. Жена Энея, Креуса, считалась дочерью Приама и Гекубы. Но дело в том, что имя Юла родственно именам германского Волсунга и легендарного первого князя славян Волхва. Одним из потомков последнего был и новгородский князь Гостомысл. Его средняя дочь Умила, согласно Иакимовской летописи, стала матерью первого русского князя – Рюрика. Сам Рюрик был представителем восточногерманского племени, ставшего известным Тациту через посредство западногерманских информаторов как Rugii, а готскому историку Иордану – из преданий собственного народа как Rosi-manorum, Rosso-morum. В реконструкции их имя будет звучать *Ru(h)os(a)mans, что можно смело перевести словосочетанием «русские люди», по подобию с Engls («англы») и English (множественная собирательная форма от Englishmen). О правителях этого восточногерманского племени, которое в союзе со словенами ильменскими и киевскими полянами породило русский народ и создало русское государство в IX-X вв. по Р. Х., известно очень немного. Однако из «Бертинских анналов» мы знаем об их конунге по имени Хакон (839 г.). Также и «Сага о Волсунгах» доносит до нас историю о конфликте руссов с королём готов Германарихом (IV в. по Р. Х.), который за мнимую измену с собственным сыном казнил свою невесту Сванхильду. Названная у Иордана Сунильдой, она считалась дочерью Сигурда, сына Волсунга; а её матерью саги называют Гудрун из рода Гьюкингов, государство которых находилось «к югу от Рейна». После смерти Сигурда Гудрун стала женой конунга Иоанакра, сыновья от которого называются представителями племени «россомонов» – руссов. Очень интересное предположение, касающееся этимологии этого этнонима, было недавно предложено И. В. Зиньковской: «…в лексиконе готской Библии, записанной Ульфилой в IV в., есть слова: rohsns – „двор“ и manna – „муж“. Получается, что слово rohsomanna по-готски буквально могло означать „придворный“»[10]. Мы далеки от мысли, собственно, и озвученной этим автором, а именно – от отказа «россомонам» в праве этнонима и толковании их имени в чисто социологическом ключе. Однако сама эта предложенная этимология может быть принята как вполне состоятельная.