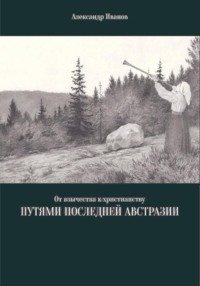Наследие прародины. Традиционалистские очерки
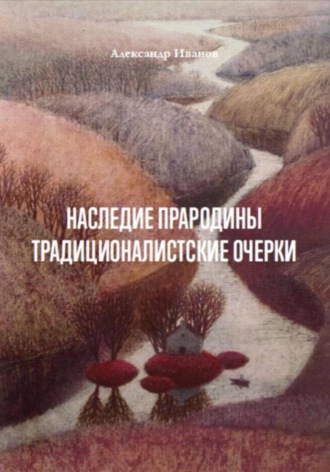
Полная версия
Наследие прародины. Традиционалистские очерки
Язык: Русский
Год издания: 2025
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу