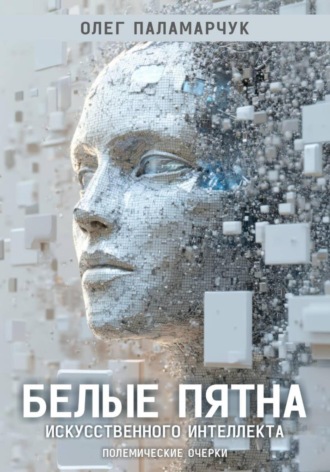
Полная версия
Белые пятна искусственного интеллекта
12–10 тысяч лет назад. Это была эпоха неолита, нового
2 Биржа (от лат. bursa – кошелек) – учреждение (место), где заключаются крупные торговые сделки. Впервые появились в Голландии.
каменного века, когда человек действительно стал умелым. Он научился делать отшлифованные и сверленые каменные топоры, делать глиняную посуду, овладел ручным ткачеством. «И зачем автор, пишущий об ИИ, читает нам лекцию по древней истории», – обидится кто-нибудь из эрудитов. Но математическая дорога к ИИ, начавшись с «ручейка» пальцевого счета, в процессе аграрной революции уже превращалась в «речку», пусть еще и не очень широкую. Сельскохозяйственная жизнь уже диктовала не примитивный устный счет на пальцах, а качественно новый способ счисления. Что, в свою очередь, вызвало потребность уже в математике, пусть пока еще не высшей.
В жизни землян нарастал информационный вал, рос объем знаний, умений, навыков, в первую очередь трудо- вых. Все острей перед нашими пращурами вставала необ- ходимость поиска способов не хранить только в головах, в устной памяти все увеличивающееся количество соци- альных сведений, посланий, известий, а «переложить» эту тяжесть на нечто находящееся вне головы. И такой способ был найден за тысячи лет умственных усилий. Че- ловек изобрел письменность, письменный язык, в допол- нение к устной, звуковой и жестовой речи3. С появлени- ем письменного слова, письменной речи, изложенных на каком-либо материальном носителе в виде знаков, иеро- глифов, символов, букв, у людей появилась реальная воз- можность объемы своей социальной памяти увеличить в тысячи раз, обмениваться информацией на расстоянии. Записанные послания, сведения, известия – это долго- временная память человечества, вынесенная за пределы
3 О первой информационной революции в истории человечества – появ- лении у древних гоминидов устной речи, человеческого языка, важнейшего необходимого средства прогресса социума – можно прочитать в моей книге
«В поисках истины», материал «Язык наш…» [8, с. 173–191].
«подсознания» индивида и зафиксированная в письмен- ных источниках. Другими словами, письмо позволяло передавать речевую информацию на расстояние и закре- плять ее во времени [9, с. 375]. Возникновение письмен- ности – это уже вторая, после устной речи, информаци- онная революция в истории человечества. Письменный язык – это в определенном смысле символический язык. С точки зрения истории ИИ важно учитывать, что без по- явления письменного алфавита невозможно было и по- явление математической письменной речи, алфавита математики. А. А. Понятов по этому поводу подчеркивал:
«Не погрешив против истины, можно сказать, что имен- но символический язык сделал математику той могучей силой, какой мы ее знаем сейчас, основой естественных и инженерных наук, в том числе физики и компьютерных технологий» [6, с. 81].
До возникновения письменности жизненно важные знания, сведения, трудовые навыки и умения передава- лись от поколения к поколению через сказы, предания, легенды, обычаи рода-племени, этноса, от старших к младшим. Передавались и технические, технологические приемы изготовления орудий труда из камня и особенно из недолговечных костей, дерева, способы охоты, рыбо- ловства. Аграрная технология способствовала переходу к рабовладению. К формации, как это ни парадоксально звучит в устах современников XXI века, более прогрес- сивной по сравнению с первобытно-общинным родо- племенным строем. Появляются государства, строятся ирригационные сооружения, каменные усыпальницы правителей (пирамиды), религиозные храмы. Все это, по- вторимся, стимулировало бурный рост письменности как одного из важнейших материальных условий перехода устного (пальцевого) счета к исчислениям с помощью ма- тематического языка. И что любопытно, у многих прави-
телей на этапе разложения первобытнообщинного строя, перехода к рабовладению (Древняя Греция, Рим, Карфа- ген) даже после распространения письменной «памяти» долго еще были т. н. «памятливые слуги», чаще рабы. Они должны были запоминать и помнить все, что нужно было господину, порой тоже неграмотному, особенно в хозяй- стве.
Чтобы заниматься умственным трудом, накапливать и развивать теоретические знания, делать научные откры- тия, человек должен иметь свободное от тяжелой физи- ческой работы время. Такую «привилегию» кроме господ имели монахи – слуги божьи. Именно им человечество в огромной степени обязано развитием астрономии, ма- тематики, философии и прочих наук. Неслучайно искус- ством письма единолично владели в основном жрецы. По этой причине многие народы приписывали происхожде- ние письменности своим богам. В Древнем Египте – богу Тоте, в Вавилоне – богу судьбы Набу, в Древней Греции – Гермесу (покровителю торговли) [10, с. 12]. Простые люди в массе своей были неграмотны. Но на Руси, заметим, так было не всегда. Вспомним берестяные грамоты в Новго- родской республике (1136–1478), а также в Пскове, Смо- ленске, Старой Руссе, Витебске, Твери и даже в Москве. Почти 800 посланий русичей на бересте отыскали наши археологи за 1951–1993 гг. В Новгороде даже дети учились грамоте. Исторический факт: дочь Ярослава Мудрого – Анна Ярославна (1024–1071), жена Генриха I, французско- го короля, была единственным грамотным человеком при королевском дворе. Что показательно, во время Ярослава Мудрого (978–1054) действовала школа, а при дворе Вла- димира Святославича было налажено обязательное книж- ное обучение приближенных. Математическое образова- ние было на уровне европейского [2, с. 113]. Но… дальше Русь стала преградой перед нашествием татаро-монгол
на Европу, со всеми вытекающими для нашей страны по- следствиями.
Итак, аграрная технология властно требовала от на- ших предков уже не просто зачатков точных наук, но и их полноценности. Что, в свою очередь, обязывает ученых- историков подниматься к логике такого уровня научного познания, которое учитывает, что появление и прогресс социальной формы жизни, в отличие от биологическо- го уровня, невозможен без «добавления» к объективным движущим силам развития социума субъективного фак- тора – сознания человечества, мышления, осмысления людьми своих действий с теоретических позиций. Триа- лектика – это прежде всего логика познаний субъектив- ных усилий человека по улучшению объективных усло- вий своей жизни.
С чего начинается, конкретизируется любая наука? С только ей присущей единицы познания, определяю- щей предмет науки. Единица познания – это начальная и конечная «планка», ниже которой и выше ее научное исследование теряет свой конкретный объект анализа. К примеру, в химии это «молекула», в биологии – «клет- ка», в антропологии – «человек», в языкознании – «слово», в истории – «факт», в философии – «мысль», в экономте- ории – «продукт труда», в политологии – «власть» и т. д. Без определения содержания и границ своей конкретной единицы познания данное научное исследование будет блуждать в потемках. Как алхимия, как астрология, не го- воря уже о мистических учениях.
В математике такой базовой начальной и конечной (ко- личественной) единицей познания выступает «число». Вы- дающийся философ Э. В. Ильенков подчеркивал, что «число» понадобилось человеку там и только там, где жизнь постави- ла его перед необходимостью сказать другому человеку (или самому себе) – не просто «больше» («меньше»), а насколько
больше (меньше)… Число предполагает меру как более слож- ную, чем «качество» или «количество», категорию, которая позволяет отражать количественную сторону точнее (кон- кретнее) …» [11, с. 51, 52]. И далее ученый продолжал: «Что за польза … от субъекта, знающего всю математическую ли- тературу, но не понимающего математики?» [Там же, с. 90]. Не осознающего места и роли математики в системе наук, но главное – в социальной форме жизни, а не просто миро- здании.
Наука частенько полна парадоксов, в том числе и с при- ключениями единицы познания конкретной науки. Даже тогда, когда она становится уже научной (учебной) дис- циплиной. Составители «Толкового математического сло- варя» (1989 г.) А. М. Микиша и В. Б. Орлов подчеркивали, что число, с одной стороны, «одно из основных понятий математики», но вместе с тем ее «содержание … менялось в разные исторические эпохи» [12, с. 173].
Думается, что не столько сущность «числа» изменялась, как базовой единицы познания математики, а расширялось понимание человеком его роли и места в измерении коли- чественных отношений и пространственных форм реаль- ного мира. Неслучайно уже математики Древнего Вавилона (XIX–VI вв. до н. э.) открыли и пользовались позиционной системой счисления4. Эта система была более абстрактным в то время разделом математики, а Пифагор (VI в. до н. э.) и его последователи предпочитали геометрические рассужде- ния [6, с. 83], хотя великий Аристотель правомерно утверж- дал, что пифагорейцы были первыми (в Древней Греции – О. П.) из тех, кто серьезно занимался математикой. По их воззрениям, принципы математики – числа – одновремен-
4 Позиционная система счисления построена на принципе такого значе- ния цифр, которое они получают в зависимости от места (позиции) и записи чисел. В частности, в п. с. одна и та же цифра получает различное числовое значение. К этой системе принадлежит ныне общепринятая десятичная си- стема. К примеру, 222 = 200 + 20 + 2 [14, с. 1206].
но являются и принципами (правилами) мира [13, с. 342], т. е. количественными его измерителями. Все же их взгляды на «число» были «превратно-мистические… До подлинного теоретического понимания числа математика (как наука – О. П.) добралась лишь многие тысячелетия спустя» [10, с. 52].
Пифагор и пифагорейцы
Много мифического и необычного можно рассказать о них. Пифагореизм – религиозно-философское мисти- ческое учение. Его представители не вели записей (!), общались между собой тайными знаками. Считается, что именно Пифагор ввел понятие «философия» – любовь к мудрости (от греч. Phyllo –люблю и sopia – мудрость). Пифагор утверждал, что в основе всего сущего лежит ЧИС- ЛО. Числовые соотношения – источник гармонии космоса, ибо структура космоса – это единство физического, геоме- трического, акустического. Пифагорейцы были убеждены в шарообразности Земли. И вместе с тем они верили в пе- реселение душ, в частности – в животных, отсюда вегета- рианство; в магическую силу цифр – путь к нумерологии.
И тем не менее вклад Пифагора, его школы в развитие арифметики и ее связи с геометрией несомненен: «еди- ница» – точка, «два» – линия, «три» – плоскость, «четы- ре» – тело и т. д. «Земля у них состоит из кубов, «огонь» – из тетраэдров. Пифагор не считал числа первичными по отношению к вещам, как это сделал Платон» (А. Н. Чаны- шев) [15, с. 501], т. е. он был ближе к материализму в со- временном понимании последнего.
История математики. Ее периодизацию в советское время дал академик А. Н. Колмогоров. Начало первого пе- риода уходит в глубь тысячелетий и завершается VI–V вв. до н. э. Отличительный признак его – появление и нако- пление пространственно-числовых представлений чело- века той эпохи в рамках общей истории человечества.
Второй период – это время элементарной математики. Он начинается с VI–V вв. до н. э. и завершается XV в. н. э.,
т. е. длился более двух тысяч лет. За эти годы были до- стигнуты успехи в изучении постоянных величин. Чтобы читатель смог сложить представление о достижении че- ловечества на этом этапе, следует обратиться к той мате- матике, которая изучается в средней школе (К. А. Рыбни- ков). Период завершается тогда, когда ученые переходят к исследованию процессов движения, начинают развивать аналитическую геометрию и углубляются в анализ беско- нечно малых.
Учителю математики средней школы на заметку
Представление об арифметике, что она является эле- ментарной частью «математики», совсем не бесспорно. Курт Гëдель (1906–1978), логик, математик, уже в 1931 году утверждал, что «не существует полной формальной теории, где были бы доказуемы все истинные теоремы арифметики [14, с. 329], а в 1932 году уже доказал невоз- можность построения арифметики натуральных чисел на базе какой-нибудь системы аксиом» [7, с. 15].
Итак, к XVI веку завершается второй период истории математики, и, хотя задача ее историков – раскрыть за- коны развития собственно математики, тем не менее А. Н. Колмогоров совсем не случайно «наложил» ее пе- риодизацию на историю технологических революций в жизни человечества. Сельскохозяйственная технология (аграрная революция), появившаяся двенадцать тысяч лет назад, привела к разложению родо-племенного пер- вобытно-общинного строя и зарождению рабовладель- ческой формации, а в некоторых территориях планеты – непосредственно к феодализму. Аграрная, производящая технология требовала и нового, более высокого уровня математических исчислений. Проницательный чита- тель вправе спросить: «А что, аграрная технология, по- родившая рабовладельческий строй, стала основой и фе- одального общества?» Абсолютно верно! И поэтому при
феодализме нужды в той высшей математике, которая развилась и засверкала всеми красками «служанки» про- мышленной индустриальной технологии, в полной мере еще не было.
Но, прежде чем мы перейдем к третьему периоду исто- рии науки математики (XVI–XIX вв.), нелишне будет оста- новиться на любопытных исторических приключениях ее базовой единицы познания – числе, вернуться к истокам алгоритмических вычислений – «мышления» компьюте- ра ХХ века. Если счет предметов породил открытие на- турального ряда чисел, то вычисления времени, длины, расстояния, площади привели к развитию аналитической геометрии и анализа бесконечно малых величин. Появля- ются соответствующие единицы измерения. Вначале рас- пространяются национальные неметрические системы единиц.
Наши предки, используя пальцы для счета, начали при- менять их для измерения длины, расстояний. Так на Руси появилась такая мера длины как вершок (излишек) – размер фаланги указательного пальца (примерно 4–4,5 см); пядь – расстояние между растянутыми большим и указательным пальцами (около 17,78 см); аршин (тюрк. – мера длины «ло- коть») в ряде стран, в России с XVI века, равен 16 вершкам (71,12 см). От аршина произошел такой русский измери- тель как сажень (расстояние, на которое можно «шагнуть»), равный трем аршинам (2,1336 м). В свою очередь, сажень породила русскую меру расстояния – версту (общесла- вянская мера длины), равную 500 саженям, или 1,0668 км. Впервые путь от села Коломенского до Москвы был изме- рен и разделен верстовыми (высокими) столбами. Отсюда и пошла поговорка: «Длинный, как коломенская верста» [3. Т. 6, с. 207]. К слову, до введения в практику аршина, саже- ни, версты в Древней Руси большие (видимые) расстояния измеряли полетом стрелы [Там же. Т. 6, с. 242].
Как видим, русичи – россияне – использовали собствен- ное тело для измерений длины, расстояний. Но то же де- лали и другие народы. Так, английская мера длины фут (от foot – «нога», «ступня») – это средний размер ступни человека (мужчины) = 30,48 см. От голландского duym («большой палец») появился измеритель дюйм, равный 1/12 фута (0,0254 м, или 2,54 см). Существует предание, что однажды английский король вытянул вперед правую руку и заявил: «Расстояние от кончика моего носа до большого пальца руки будет служить для всего моего народа мерой длины и называется ярд (yard – «двор»). Подданные тут же изготовили прут из бронзы «от королевского носа до пальцев», и ярд надолго стал для англичан измерителем длины (91,44 см) [3, с. 241]. В Римской империи большие расстояния измерялись шагами: 2000 шагов приравнива- лись к одной миле. Сухопутная (уставная) миля равнялась 1,609 км; морская миля – 1,852 км. А вот старая русская миля была уже длиной 7,468 км [14, с. 951].
С переходом к оседлому земледелию, а главное – к част- ному землевладению, встала проблема измерения земель- ных площадей, земельных участков. И здесь без геометрии не обойтись. Неслучайно слово «геометрия» буквально оз- начает «землемерие». Правда, Аристотель ввел для измере- ния земли другой термин – «геодезия» (от греч. ge – земля и daio – разделяю). Согласно свидетельствам Геродота (V в. до н. э.), древние египтяне должны были, по-видимому, вновь и вновь измерять земельные участки из-за постоян- ных разливов Нила [7, с. 28–29]. Начав с «землемерия», гео- метрия со временем стала важнейшей частью математики, изучающей пространственные отношения и формы тел, предметов, а также, в отличие от евклидовой, их обобщения [12, с. 23–24].
Читатель-эрудит вправе упрекнуть автора, что пове- ствование ведется в основном об измерениях простран-
ства. Но ведь человечеству, в том числе и для ИИ, надо было изобретать способы измерения времени, веса, тем- пературы и многого, многого другого. И не только изме- рять математически, но и сопоставлять эти измерения друг с другом, чтобы находить сложнейшие технико-ин- женерные решения.
Итак, время! Именно «поведение» Нила заставило древ- них египтян задуматься, как приспособить сельскохозяй- ственные работы к его разливам. Не ждать наводнений, а приурочить весеннюю страду к моменту, когда спадает вода. Египетские жрецы установили, что Нил разливается периодично. От одного половодья до следующего прохо- дит 365 дней и ночей, т. е. 365 суток (сутки букв. – «стол- кновение, слияние дня и ночи»). И точно в это время на небе появляется яркая звезда Сириус. Тогда жрецы разде- лили 365 (или год, букв. – «время») на 12 частей, по 30 су- ток в каждой, а оставшиеся 5 дней стали как бы довеском в конце года. Так появился у людей первый календарь, хотя слово «календарь» появилось позже – от латинского kalendarium, букв. – «долговая книга». Египетское годо- вое время было простым в обращении, но жизнь древних египтян оно существенно облегчило. Прошли годы. Но вот обнаружилось, что Сириус через каждые четыре года стал
«опаздывать» на целые сутки. Жрецы снова взялись за расчеты и вычислили, что год равен 365 дням плюс 6 ча- сов. В итоге за четыре года набегали еще «лишние» сутки. И опять жрецы, как астрономы, как математики, выясни- ли, почему Сириус задерживается, но календарь, однако, оставили в прежнем виде.
Усовершенствовали его римляне. Римский император Юлий Цезарь (102–44 гг. до н. э.) распорядился исправить древний египетский календарь. Какие были внесены нов- шества? Как и в Древнем Египте, год был разделен на 12 частей – месяцев. Месяц, лат. mensis – «луна», «месяц» из
индоевропейского мерить. Но теперь количество дней в каждом месяце стало или 30, или 31, а в феврале все- го 28. Но именно к февралю раз в четыре года стали до- бавлять еще один день, чтобы календарь «не убегал» впе- ред. Это был «юлианский календарь». Весь христианский мир пользовался этим календарем до 1582 года. Именно в этом году были внесены изменения в юлианский лун- ный календарь [3. Т. 6, с. 22–23]. Средняя продолжитель- ность григорианского календаря – солнечного – равняется 365,2425 суток, т. е. на 28 секунд больше юлианского ка- лендаря. В итоге разница между старым и новым стилем составляла в XVIII в. 11 суток, в XIX в. – 12 суток, а в ХХ– ХХI вв. – 13 суток. Другими словами, отличие юлианского календаря от григорианского в одни сутки накапливается за 128 лет, а по григорианскому календарю – за более чем 3300 лет [4, с. 617].
Россия жила по старому стилю вплоть до января 1918 года. Думается, стремление жить по юлианскому кален- дарю было вызвано и политическими причинами: сопро- тивлением Русской православной церкви (окончательно оформилась как автокефальная в 1448 году) насильствен- ной, в определенной мере, католизации. Как, впрочем, и перевод большевиками страны на новый стиль кроме прочих причин был вызван политическими факторами.
«Календарная полемика»
Профессор В. И. Чередниченко, полемизируя со сторон- никами григорианского календаря, подчеркивал, что «если мы примем за координаты юлианского календаря то, что подсказывает его числовой текст и менталитет (т. е. образ мыслей – О. П.) древних астрономов, называемых «фило- софами» (Страбон), то мы увидим превосходство юлиан- ского календаря над другими календарными системами». Главный вред григорианского календаря Владимир Ильич видит в том, что данный календарь «создал трагическую
ситуацию в церковной литургии – разрушив пасхалию (т. е. вычисления дат праздников – О. П.) и деформировав богослужебный устав. Григорианский календарь «произ- вел путаницу и беспорядок в исторической хронологии». А это, по мнению советского астронома-теоретика, физика и математика Наума Ильича Идельсона (1885–1951), не что иное как «математический абсурд» (см. его «История календаря» 1925 г.).
В настоящее время ученые, не только астрономы, рабо- тают над составлением более точного календаря.
И какое отношение все более точное измерение вре- мени имеет к ИИ? Без знания времени невозможно вы- числить скорость протекания процессов в реальном мире. Общеизвестно, что конструкторы ИИ берут за образец мозг человека. По данным нейрофизиологов из Кали- форнийского технологического института (США), чело- веческие органы чувств воспринимают информацию из окружающей среды со скоростью миллиард бит в секун- ду, а думаем мы, люди, со скоростью 10 бит в секунду [5. – 2025. – № 3. С. 80]. Ученые еще ранее выяснили, что скорость передачи информации от нейрона к нейрону, т. е. в системе Мозг, «порядка полутора километров», или один «шаг», т. е. длительность импульса нейрона – одна миллисекунда, или одна тысячная секунды. Информация в мозге, т. е. начала мышления, «шагает» со скоростью 1,5 км в сек, а в электронных вычислителях – 300 000 км/сек. Однако, указывал инженерам электронного «мозга» ака- демик Святослав Всеволодович Медведев, что, хотя «раз- ница в двести тысяч, а мозг человека работает лучше!» [16, с. 19]. Кто мыслит с помощью мозга? Человек! Кто управляет своим мозгом?! Человек! А ИИ, нейросеть?.. Кто в ней главный, а кто ведомый? Но мы отклонились от математического тракта, ведущего нас через толщу вре- мени к ИИ.
«Управлять можно тем, что можно измерить» (лорд Кельвин). Вот почему в любой производственной деятель- ности нужны единицы измерения. Они требуются чело- вечеству для точного знания: «Какое расстояние? Какова площадь? Какой объем? Вес? Сколько прошло времени? и т. д.». Но единицы измерений (мер) сами по себе не слу- жат источником знания. Они помогают получить новые знания, приближаться к истине, постигнуть истину. Но несомненно, что сначала и сам инструмент измерений необходимо изобрести и совершенствовать.
Отвечая на потребности развивающегося производства,
человек придумывал все новые и новые единицы измере- ния. Необходимо измерение массы, веса продуктов труда, особенно при их обмене, при торговле. Так в Англии по- явился фунт – основная единица массы в английской на- циональной системе мер, обозначалась lb. После появления эталонных единиц веса – килограмм, грамм, миллиграмм – выяснилось, что один торговый фунт равен 0,45359237 кг, а аптекарский фунт – 0,37324177 кг.
В русской системе мер фунт5 появился, вероятно, при Петре I и равнялся одной сороковой чисто русской меры веса пуд – 16 кг (пуд – это и «гиря», и «вес» по Далю), а так- же 30 лотам (лот от «грузило», «свинец»); 96 золотникам, 9216 долям, а доля = 1/96 части золотника, или 44,43 мил- лиграмма (миллиграмм – это одна тысячная грамма). Но к килограммам, граммам, миллиграммам, как наибо- лее удобным, общепризнанным эталонам веса, еще надо было прийти и признать их всем миром. А пока люди планеты пользовались своими национальными мерами длины, объема, веса, температуры, давления и т. п. Про-
5 Именно «фунт» и другие измерители породили русские поговорки: «Это тебе не фунт изюму!», т. е. не пустяк; «Узнаешь, почем фунт лиха», т. е. како- во жить в горе, в несчастье; «Чтобы познать человека, надо с ним пуд соли съесть!»; «Мал золотник – да дорог!» и пр.
ницательный читатель уже догадался, что для ИИ достоя- ния всей Земли – фунты, пуды, дюймы, футы – не годятся [3. – 2022. – № 6. – С. 48–49].
Третий период в истории математики, по мнению Кол- могорова, начинается с XVI века и завершается к сере- дине XIX в. К началу этого периода в математике только появляется символический язык. Алексей Понятов под- черкивал, что «именно символика позволила представить сложные понятия, свойства изучаемых объектов и связы- вающие их законы в точной, однозначной и краткой фор- ме» [6, с. 81]. Символика – метрическая система, понятная всему миру, в том числе и ИИ. В математике символика объединила ученых в единый союз единомышленников.




