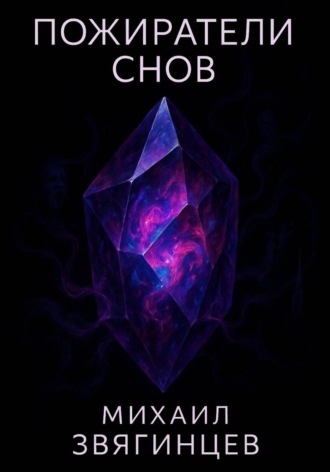
Полная версия
Пожиратели снов
Нота горечи. Ненависти, дистиллированной до состояния чистого яда. И рядом с ней, как тень, отзвук… любви. Потерянной, оскверненной, но все еще вибрирующей с немыслимой силой.
Холод и пламя. Лед и магма. Два совершенно несовместимых элемента, слитых воедино в одной ментальной подписи. Это было невозможно. Шизофренично. Это ломало все известные ему модели психопрофилей.
– Инквизитор? – неуверенно позвал один из помощников.
Магнус открыл глаза. В его бесцветном взгляде впервые за долгое время появилось что-то похожее на живой интерес.
– Это не один человек, – сказал он тихо, скорее себе, чем им. – Или это человек, которого разорвало надвое.
– Что нам делать, сэр?
– Запускайте полный прогон. База данных Гильдии, черного рынка, все известные онейропаты, зарегистрированные и нет. Ищите эту подпись. Этот диссонанс. Холодная точность, скрещенная с первобытной яростью. Ищите не убийцу. Ищите художника. Монстра-перфекциониста.
Он отвернулся от реконструкции и подошел к настоящему окну, глядя на простиравшийся внизу город. Он знал, что это дело не будет простым. Это была не банальная разборка торговцев снами. Это было нечто новое. В его идеально упорядоченном мире ментальной гигиены появилась новая, неизвестная бактерия. И она была не только смертельно опасна, но и, к его профессиональному восторгу, невероятно красива в своем уродстве.
Инквизитор Магнус не знал, кого он ищет. Но он уже чувствовал к своему противнику странное, извращенное уважение. И он не успокоится, пока не найдет его. Или ее. И не препарирует эту аномалию, чтобы понять, как она устроена, прямо перед тем, как ее стерилизовать. Его охота началась.
Тень под неоновым дождем
Координаты, выведенные на холодном стекле инфо-планшета, были не просто набором цифр. Они были вектором, указывающим в сердце давно затянувшейся раны на теле города. Сектор Гамма-7. Даже в Подбрюшье это название произносили с оттенком суеверного уважения, как имя древнего, заразного божества. Место, где индустриальные вены города прогнили и лопнули десятилетия назад, излив свою ржавую кровь в лабиринт заброшенных фабрик и осыпающихся жилых блоков. Место, которое Оникс пытался забыть, ампутировать, но оно продолжало гнить, соединенное с живым организмом города тысячами темных капилляров.
Когда я сошла с последней общественной грави-платформы, воздух изменился. Он стал плотнее, тяжелее, насыщенный запахом вековой сырости, въевшейся в самый бетон, и тонким, кислым привкусом химических отходов, сочащихся из-под земли. Неоновый свет сюда почти не проникал, разбиваясь о нагромождение ржавых конструкций наверху. Царство тусклых аварийных ламп, отбрасывающих длинные, больные тени, и биолюминисцентного мха, покрывавшего стены призрачным, зеленоватым светом.
Ты боишься. Голос Каина был спокоен, почти безразличен. Но я чувствовала под этим спокойствием едва заметную вибрацию, как у струны, по которой провели смычком. Узнавание. Он возвращался домой.
Я не боюсь. Я собираю данные. Мой собственный мысленный ответ прозвучал слабо, как ложь, сказанная в исповедальне. Я плотнее запахнула плащ, ощущая, как десятки невидимых глаз следят за мной из темных провалов окон и проржавевших дверных проемов. Моя одежда, мой шаг, сам запах моего отфильтрованного воздуха из Игл – все здесь кричало о том, что я чужая.
Сюда. Поверни за тем паровым коллектором.
Я подчинилась инстинктивно. Мои ноги двинулись прежде, чем разум успел проанализировать команду. Улица, если можно было так назвать этот узкий проход между двумя стенами, покрытыми слизью, сузилась еще больше. Я шла по коридору из чужого прошлого. Каждый шаг отзывался в моей голове россыпью сенсорных осколков, не принадлежавших мне.
Вон та ниша в стене… мы прятались там от патруля Гильдии. Ее руки были ледяными, и я грел их своим дыханием. Она смеялась, и ее смех был единственным теплом в этом промозглом аду.
Я скосила глаза на темный провал. На мгновение мне показалось, что я вижу два призрачных силуэта, прижавшихся друг к другу. Видение исчезло, оставив после себя фантомный холод на моих ладонях. Я сжала кулаки, ногти впились в кожу. Это было невыносимо. Я была не просто зрителем в театре его памяти. Я была сценой, на которой разыгрывали эту пьесу.
Мы шли – или оно вело меня – все глубже в лабиринт. Логика городского планирования здесь давно умерла, уступив место хаотичному росту и медленному распаду. Ржавые лестницы вели в никуда, обрываясь над пропастями. Мосты, перекинутые между зданиями, скрипели под ногами, и сквозь проржавевшие плиты виднелась бездна нижних уровней. Здесь не было людей. Только тени, скользившие на периферии зрения, и ощущение постоянного, молчаливого наблюдения. Это было нежилое место. Но оно не было пустым.
Еще один поворот. Узкий, как щель. Пахнет озоном и гниющими грибами. Я бы никогда не сунулась сюда по своей воле.
Здесь. Лестница наверх. Осторожнее, третья ступенька прогнила.
Я поставила ногу на металлическую лестницу, вьющуюся по внешней стене ветхого здания. Она была скользкой от влаги. Третья ступенька действительно поддалась под моим весом с глухим скрежетом. Без его предупреждения я бы сорвалась. Он знал это место лучше, чем я знала топографию собственной лаборатории. Я поднималась, этаж за этажом, цепляясь за холодный, покрытый оспинами ржавчины металл. Ветер здесь, наверху, был сильнее, он завывал в переплетениях арматуры, словно оплакивая кого-то.
Последняя площадка. Дверь. Простая, обитая листовым железом, с выцветшим, едва различимым номером.
Мы дома, Лия.
Имя прозвучало в моей голове не как мысль, а как выдох. В нем было столько нежности и боли, что у меня на мгновение перехватило дыхание. Замок был сорван. Дверь, протестующе скрипнув, поддалась. Я шагнула внутрь, в темноту.
Первое, что ударило по мне – запах. Не гнили и сырости, как снаружи. А сухой пыли, терпентина и застарелой тоски. Воздух был неподвижен, словно время здесь остановилось в тот самый день, когда отсюда ушла жизнь. Я провела рукой по стене, нащупала выключатель. Щелчок прозвучал оглушительно громко в мертвой тишине. Под потолком вспыхнула и замерцала, борясь за жизнь, единственная люминесцентная лампа.
Я оказалась в большой комнате, мансарде, чьи наклонные стены были испещрены подтеками. Это была студия. И одновременно – святилище. Здесь не было почти никакой мебели: старый, продавленный матрас в углу, шаткий стол с несколькими пустыми бутылками, ящик, служивший табуретом. Все пространство было отдано искусству. Десятки холстов были прислонены к стенам, лежали стопками на полу, некоторые были натянуты на самодельные подрамники.
Я медленно двинулась вдоль стен, разглядывая их. Мой холодный, аналитический ум пытался каталогизировать увиденное, но эмоции, исходившие от полотен, были слишком сильными. Это были пейзажи Оникса. Но такого Оникса я никогда не видела. На его картинах город был не просто нагромождением бетона и неона. Он был живым. Чудовищным, хищным организмом. Небоскребы Игл были не изящными шпилями, а клыками, впившимися в кровоточащее небо. Неоновая реклама – не огнями, а язвами на больной коже. Улицы Подбрюшья – не артериями, а венами, по которым текла темная, застойная кровь. Он писал не город, а его боль. Он вскрывал его скальпелем своей кисти и показывал гниющие внутренности. Краски были темными, густыми – индиго, умбра, багровый. Мазки – резкими, яростными, словно он не писал, а дрался с холстом. Это было искусство гения, рожденное из ненависти.
Он ненавидел это место. Так же сильно, как любил ее.
Я повернулась к другой стене. И контраст был так резок, что я невольно сделала шаг назад. Здесь были только портреты. Десятки портретов одной и той же девушки. Лии. Теперь я знала ее имя.
Она была… Она была светом. Он писал ее так, словно пытался удержать в этом темном мире единственный источник тепла. Вот она смеется, запрокинув голову, и в ее растрепанных темных волосах запутался отблеск неоновой вывески. Вот она спит, свернувшись калачиком на старом матрасе, и ее лицо абсолютно безмятежно, как у ребенка. Вот она смотрит прямо на художника – на меня, – и в ее глазах целая вселенная: озорство, нежность, вызов и безграничное доверие. Ее красота была не холодной, аристократической красотой женщин из Игл. Она была живой, теплой, немного неправильной. Тонкий шрам над бровью, едва заметная щербинка между передними зубами, родинка на шее. Он выписывал каждую эту деталь с одержимостью влюбленного, с благоговением верующего. В этих картинах не было ни капли тьмы. Только она. Его альфа и омега. Его единственная причина не дать этому городу сожрать себя заживо.
Я провела кончиками пальцев по одному из холстов. Пыль была мягкой, как бархат. Под ней – грубая текстура краски. Я чувствовала его прикосновения. Я видела ее его глазами. И во мне поднялось нечто странное. Не просто сочувствие. Зависть. Острая, как укол иглы, зависть к этой девушке с портрета. Зависть к тому, что ее так видели, так любили. Что она была для кого-то целым миром. То, чего я, Лилит Верескова, со всеми своими деньгами, талантом и безупречной репутацией, никогда не знала и, возможно, уже никогда не узнаю.
Именно тогда я заметила его. Последний холст. Он стоял на мольберте в самом темном углу комнаты, прикрытый грязной тряпкой. Словно его спрятали, чтобы никогда больше не видеть. Что-то заставило меня подойти. Предчувствие, холодное и липкое, скользнуло по спине. Я протянула руку и сдернула тряпку.
И едва не закричала.
Это была она. Лия. Но это была не та девушка, что смеялась на других портретах. Это была маска ужаса. Глаза, всегда полные света, были расширены от нечеловеческого страха, смотрели не на художника, а сквозь него, на что-то невыразимо страшное за его спиной. Рот был открыт в беззвучном крике. Краски были нанесены лихорадочно, размазаны, кажется, пальцами. Художник спешил запечатлеть этот момент, эту агонию. Работа была не закончена. Он успел написать только ее лицо. И тень за ее спиной.
Это была просто тень. Темное пятно, фигура без черт. Но была одна деталь, прописанная с жуткой, фотографической точностью. Глаза. В тени горели два холодных, серых глаза. Глаза, в которых не было ничего – ни злости, ни радости, ни ненависти. Только абсолютная, мертвая пустота пресыщенного зверя, разглядывающего свою добычу.
Я знала эти глаза.
Я видела их в голографической проекции в своей лаборатории. Я видела их в своих кошмарах после каждой встречи с ним.
Барон Корвус.
Мир качнулся. Я отшатнулась, натыкаясь спиной на шаткий стол. Бутылки с него посыпались на пол с оглушительным звоном. Этого не может быть. Совпадение. Просто больное воображение художника…
Нет. Голос Каина в моей голове был уже не шепотом. Это был рев, наполненный такой концентрированной ненавистью, что я физически ощутила ее, как удар под дых. Он. Это был он. Убийца.
Теперь я поняла все. Мендакс, мелкий чиновник из Гильдии. Он что-то нашел. Что-то раскопал. Какую-то ниточку, ведущую к Барону. И его убрали. Не Барон. Каин. Элиас. Моими руками. Это было не случайное убийство. Это был первый шаг. Первый акт мести.
Я стояла посреди заброшенной студии, посреди призраков чужой любви и чужой смерти, и ледяная ясность пронзила меня. Я больше не была просто сосудом. Я стала свидетелем. Я стала оружием. И этот путь вел не к избавлению. Он вел прямо в сердце тьмы, в резиденцию на вершине самой высокой иглы Оникса. И я уже сделала по этому пути первый, необратимый шаг.
В то же самое время, в лавке Иеремии, пахло страхом. Он был гуще пыли, острее запаха сушеных трав. Инквизитор Магнус чувствовал его так же ясно, как другие чувствовали перемену погоды. Он стоял посреди лавки, не двигаясь, его массивное тело в строгой форме Гильдии казалось неуместным в этом хаосе забытых историй. Он не задавал вопросов. Он просто смотрел. И его бесцветные глаза были страшнее любого дознавательного зонда.
Иеремия сидел за своим прилавком, делая вид, что перебирает какие-то старые дата-чипы. Но его пальцы, обычно такие ловкие, дрожали, и он то и дело ронял чипы на заваленную хламом поверхность. Он не смотрел на инквизитора. Он смотрел на свои руки, словно боялся, что если поднимет взгляд, то превратится в соляной столп.
– Ты нервничаешь, Архивариус, – наконец произнес Магнус. Его голос был ровным, безэмоциональным, как у патологоанатома, комментирующего вскрытие. – Это на тебя не похоже. За всю мою службу я ни разу не видел, чтобы ты нервничал. Даже когда мы устраивали рейд на твой склад в прошлом году. Ты был спокоен, как истукан. Что изменилось?
– Времена меняются, инквизитор, – проскрипел Иеремия, не отрываясь от своего занятия. – Становлюсь стар, сентиментален. Ваш визит… всегда честь для скромного торговца.
– Я пришел не за тобой. Сегодня. Я ищу аномалию. Уникальный товар, который недавно прошел через черный рынок. Кристалл исключительной чистоты и силы. Донор, очевидно, был гением или безумцем. Или и тем, и другим. Он оставляет очень… специфический след.
Иеремия пожал плечами, стараясь, чтобы это выглядело естественно.
– Я уже говорил твоим мальчикам. Через меня проходит столько товара, что я не помню, что продавал вчера.
– Не лги мне, Иеремия, – Магнус сделал один шаг к прилавку, и старик невольно вжался в свое кресло. – Ложь имеет свой ментальный запах. Сладковатый, как гниль. А твоя лавка сейчас воняет ложью так, что режет глаза. Этот кристалл был здесь. И совсем недавно. Я чувствую его эхо. Слабое, почти стертое. Но оно есть. Кто его купил?
Старик молчал. Его лицо стало серым. Он был пойман между двумя хищниками. С одной стороны – Инквизиция, которая могла закрыть его лавку и сгноить в камере. С другой – нечто куда более страшное. Нечто, что могло прийти к нему во сне и разобрать его душу на части. Он выбрал меньшее из зол.
– Я ничего не знаю, – упрямо повторил он. – У меня нет имени. Покупатель был в плаще, лицо скрыто. Обычное дело.
Магнус смотрел на него еще несколько секунд. Затем кивнул, словно удовлетворившись ответом.
– Хорошо.
Он повернулся и пошел к выходу. Иеремия с облегчением выдохнул. Но у самой двери инквизитор остановился.
– Знаешь, что самое странное, Архивариус? – сказал он, не оборачиваясь. – Я чувствую здесь не только эхо того кристалла. Я чувствую и твой страх. Он свежий, почти осязаемый. Ты боишься не меня. Ты боишься того, кто был здесь до меня. Того, кто купил этот сон. Он напугал тебя до смерти. Тебя, которого не пугает ничто в этом городе. И это… очень, очень интересно.
Магнус вышел, и дверь за ним тихо закрылась. Иеремия остался один в своей пыльной гробнице, и его трясло так, что дата-чипы сыпались с прилавка, как выбитые зубы. Инквизитор не получил имени. Но он получил нечто большее. Он получил направление. Он понял, что его аномальный убийца не просто силен. Он способен внушать такой первобытный ужас, что даже старый паук Иеремия готов скорее быть съеденным Инквизицией, чем выдать его имя. Магнус вышел на улицу, в неоновый сумрак Подбрюшья, и на его гранитном лице впервые появилось нечто, похожее на улыбку охотника, напавшего на свежий след. След вел наверх, в Иглы. Он был уверен в этом. Такая сила и такой страх не могли родиться здесь, в грязи. Они могли быть только куплены. За очень большие деньги.
Когда тьма дарует зрение
Имя было ключом. Оно отпирало последнюю, самую темную комнату в мавзолее его памяти, и ледяной сквозняк оттуда погасил остатки моего собственного мира. Корвус. Я произнесла его беззвучно, и это имя, словно кислота, прожгло дыру в реальности. Оно осело на языке привкусом старой крови и несмываемого пепла. Я смотрела на искаженное ужасом лицо на холсте, на тень с холодными серыми глазами за ее спиной, и видела не просто картину. Я видела протокол вскрытия души. Акт обвинения, написанный не чернилами, а болью.
Ярость, что поднялась из глубин моего нового, двухголового сознания, была не моей. Мой гнев – это тонкий, холодный инструмент, скальпель для точных разрезов. Эта же ярость была стихией. Расплавленной магмой, которая затопила все, выжигая страх, сомнения, саму Лилит. На мгновение я перестала существовать, став лишь линзой, фокусирующей ненависть Элиаса в один испепеляющий луч, направленный на вершину самой высокой иглы Оникса. Я хотела бежать. Бежать туда, сейчас, и разбить вдребезги этот город, лишь бы добраться до его гниющего сердца.
Хватит.
Слово прозвучало в моей голове не как мысль, а как удар хлыста. Ярость не исчезла, но она сжалась, уплотнилась, превратившись из всепожирающего огня в сингулярность, в точку абсолютной тьмы, вокруг которой теперь вращалось все.
Ты видела, – голос Каина был лишен всякой эмоции. Это была сталь, закаленная в нечеловеческом горе. – Теперь смотри. По-настоящему.
Я не поняла.
– Что смотреть? Я все увидела.
– Ты увидела только то, что лежит на поверхности. Как твои клиенты, что скользят по глянцевой обертке чувств, не понимая их сути. Ты смотришь, но не видишь. Я был художником. Я научу тебя видеть.
Я моргнула, и мир изменился. Словно в моих глазах провернули какой-то невидимый окуляр, меняя фокусное расстояние. Комната перестала быть просто заброшенной студией. Она стала текстом, который нужно было прочесть.
– Смотри на мольберт, – приказал он. – Что ты видишь?
– Последний портрет Лии. Незаконченный.
– Неверно. Смотри на мазки. Они рваные, пастозные. Он не использовал кисть. Он наносил краску пальцами, мастихином, чем придется. Он торопился. Он не писал картину. Он кричал на холсте. Теперь посмотри на пол, слева от мольберта. Пятно. Темнее, чем остальная пыль.
Я перевела взгляд. Действительно, там было темное, расплывчатое пятно.
– Это вино, – мой собственный голос удивил меня. Я не знала этого. Но я знала. – Красное. С корицей. Он опрокинул бутылку, когда вскочил. Когда они пришли за ней.
– Теперь смотри на свет. Лампа над тобой. Она одна. Она дает резкие тени. А на картине… на ее лице свет падает с двух сторон. Один – холодный, от лампы. А второй… второй теплый, живой, идет снизу. Видишь блик в ее зрачке?
Я прищурилась. Там, в бездонной черноте ее расширенного от ужаса зрачка, действительно был крошечный, почти невидимый блик.
– Свеча, – прошептала я. – На столе стояла свеча. Они ужинали.
– Мы ужинали, – поправил он, и его голос на мгновение дрогнул. – Мы ужинали. Они вошли без стука.
Я смотрела на комнату, и она оживала, наполняясь призраками. Я видела их. Элиас и Лия. Свеча на столе. Запах еды. Смех. А потом – грохот выбиваемой двери. Тьма, ворвавшаяся в их маленький, хрупкий мир. Его опрокинутый стул, разлитое вино. Его, спрятавшегося за стопкой холстов, парализованного ужасом, видящего все, неспособного пошевелиться. Ставшего вечным, беспомощным свидетелем. Каждая деталь в этой комнате была словом в предложении, описывающем конец света. Я училась читать этот язык. Язык теней, пыли и застывшего горя. Это и было зрение, которое даровала тьма. Способность видеть структуру катастрофы в ее мельчайших деталях.
– Мы уходим, – сказал он, возвращая меня в настоящее. – Он знает, что ты забрала сон. Он еще не знает, что сон забрал тебя. Но он будет искать. Его цепные псы уже почуяли след.
– Кто? – спросила я, направляясь к двери.
– Не Гильдия. Гильдия – это закон, пусть и прогнивший. У Корвуса свои законы и свои палачи. Они не носят форму. Они носят дорогие костюмы и улыбки, острые, как бритва. Они не оставят следов. Они просто сотрут тебя из реальности.
Когда я снова оказалась на узких мостках Гамма-7, мир снаружи тоже выглядел иначе. Я больше не была чужаком, забредшим в опасные трущобы. Я была частью этого пейзажа. Я видела не просто хаос ржавых конструкций. Я видела укрытия. Пути отхода. Мертвые зоны, невидимые для наблюдателей сверху. Мое тело двигалось по-другому. Плечи расслабились, походка стала менее жесткой, более плавной, почти кошачьей. Я не шла – я скользила сквозь тени, инстинктивно выбирая маршрут, где скрип проржавевшего металла под ногами был тише, где капающая с труб вода могла заглушить звук моих шагов.
Не иди по центру моста, – комментировал Каин каждое мое движение. – Жмись к стене. Ты – не цель, ты – часть текстуры. Не смотри вверх. Они ищут тех, кто смотрит вверх. Смотри на отражения в лужах. Они покажут тебе небо за спиной.
Я подчинялась. Мой мозг, привыкший к логике и анализу, отключился, уступив место инстинктам. Инстинктам затравленного зверя, который родился и вырос в этих каменных джунглях. Это было странное, пьянящее чувство. Словно я всю жизнь ходила в неудобной обуви, и вдруг мне позволили ступать босиком, ощущая каждый камень, каждую трещину в бетоне. Страх никуда не делся, но он изменил свою природу. Он перестал быть парализующим ужасом жертвы. Он стал острой, холодной бдительностью хищника, который знает, что за ним охотится другой, более крупный хищник.
Мы почти добрались до границы сектора, где начинались более оживленные артерии Подбрюшья. Впереди виднелся широкий пролет, освещенный пульсирующей неоновой вывеской какого-то бара. Оттуда доносились звуки музыки и пьяные голоса. Спасение. Толпа. Там можно было раствориться.
Стой.
Команда была такой резкой, что я замерла на месте, вжавшись в темную нишу за проржавевшим вентиляционным коробом.
– Что такое?
– Двое. На той стороне пролета. У опоры моста. Они не местные.
Я осторожно выглянула. Сначала я ничего не увидела. Просто тени, как и десятки других.
– Ты не смотришь, а пялишься, – с раздражением бросил он. – Не фокусируйся на них. Смотри вокруг. Что не так с этой картиной?
Я снова посмотрела, пытаясь применить его урок. Тени. Прохожие, бредущие по своим делам. Пара техников, копающихся в силовом щите. И эти двое у опоры. Они стояли неподвижно. Слишком неподвижно для этого места, где все постоянно в движении. Их одежда была темной, но крой был слишком хорош для Подбрюшья. И главное – их обувь. Она была чистой. В Гамма-7 не бывает чистой обуви. Ни у кого. Это была крошечная, но вопиющая деталь. Деталь, которую мой старый взгляд никогда бы не заметил.
– Они ждут, – прошептала я.
– Они ждут тебя. Корвус не любит ждать. Он не стал посылать гончих по твоему следу. Он просто расставил капканы на всех выходах из мышеловки.
Мое сердце, до этого момента стучавшее ровно и холодно от адреналина, сделало один тяжелый, глухой удар. Капкан. А я шла прямо в него.
– Что делать? Назад?
– Назад – второй капкан. Они всегда работают парами. Они загоняют дичь. Но они допустили ошибку. Они думают, что охотятся на напуганную аристократку. Они не знают, что теперь в этой клетке двое.
В его голосе не было страха. Только холодный, расчетливый азарт игрока, которому раздали интересные карты.
– План? – спросила я, чувствуя, как мышцы моего тела напрягаются в ожидании.
– Мы не будем убегать. Мы пройдем сквозь них.
Это было безумие. Они были профессионалами. Скорее всего, вооружены. Я была… я была онейрокулинаром. Моим единственным оружием всегда был мой разум.
– Я не умею драться.
– Ты – нет. А я – да. Я не был воином. Но я вырос здесь. А здесь каждый день – это драка. За еду. За место под крышей. За право дышать. Тело помнит. И твое тело теперь – мое.
Он не дал мне времени на раздумья.
– Иди. Прямо на них. Не смотри на них. Смотри сквозь. Ты – одна из местных. Пьяная. Возвращаешься домой после смены. Расслабь плечи. Сутулься. Волочи ноги. Давай.
Я шагнула из тени. Каждый мускул моего тела кричал, протестуя. Это было самоубийство. Но я шла. Я заставила себя расслабить идеальную осанку, сгорбилась, опустила голову. Я шла, глядя себе под ноги, и мир сузился до пятен света и тени на грязном бетоне. Я чувствовала их взгляды на себе, как физическое прикосновение. Два булавочных укола в районе затылка. Я прошла мимо техников, ковырявшихся в щите. Когда я поравнялась с ними, один из них вдруг выпрямился и шагнул мне наперерез.
Это был не техник. Под грязной робой угадывались тренированные мышцы. Его лицо было безликим, стертым, но глаза – внимательными и холодными.
– Эй, красавица, огоньку не найдется? – его голос был нарочито грубым, сленговым, но фальшь в нем резала слух.
Я остановилась. Мое сердце колотилось где-то в горле. Я подняла на него голову, готовясь что-то ответить, солгать, но слова застряли.
– Я…
Сейчас.
Команда Каина была не мыслью. Она была электрическим разрядом, прошедшим по моему позвоночнику. И мое тело взорвалось.
Это было самое странное и самое страшное ощущение в моей жизни. Я была внутри, но я не управляла. Я была зрителем в собственном черепе, наблюдающим, как мои руки и ноги движутся с чужой, смертоносной грацией. Моя левая рука, та, что была в кармане плаща, метнулась вперед. Но не кулаком. Раскрытой ладонью. И пальцы, мои тонкие, аристократические пальцы, сжались не на его лице, а на маленьком, почти незаметном предмете, приколотом к его воротнику. Коммуникатор. Я сдернула его с такой силой, что он оторвался вместе с куском ткани, и в то же мгновение мое тело развернулось.






