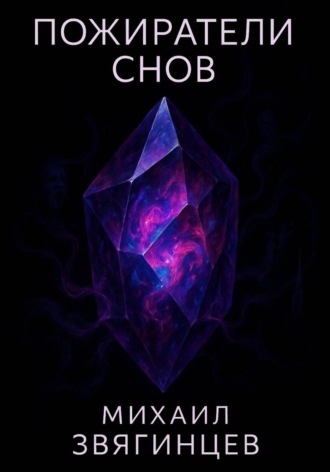
Полная версия
Пожиратели снов

Михаил Звягинцев
Пожиратели снов
Вкус запретного чуда
Холодный свет, стерильный, как спирт на ране, заливал мою лабораторию. Он отражался от хромированных поверхностей дистиллятора, от ряда герметичных колб, от лезвий молекулярных скальпелей, разложенных на черном бархате с геометрической точностью. Здесь не было места пыли, случайности или эмоциям. Только работа. Чистое, холодное искусство.
В моих руках тончайшая пипетка дрогнула и замерла над бокалом из дымчатого хрусталя. Внутри переливалась бледно-золотистая жидкость – концентрат ностальгии по несуществующему прошлому. Последний штрих. Капля эссенции первого детского разочарования, дистиллированная до состояния легкой горечи, с едва уловимым озоновым послевкусием. Она должна была оттенить сладость воспоминания о запахе выпечки из пекарни, которой никогда не существовало, и восторженного трепета от первого полета на глайдере, который клиент видел только в рекламных роликах. Я создавала не сон, а идеализированный фантом памяти, который будет греть душу пресыщенного финансиста из Игл еще пару циклов. Дешево, но эффективно.
Сенсорный букет был выверен до микрона. Я закрыла глаза, мысленно пробую композицию. Да. Легкая меланхолия на вдохе, переходящая в теплое, обволакивающее чувство защищенности, и едва заметная терпкость на выдохе – напоминание о том, что все это иллюзия. Идеально. Еще один заказ выполнен. Еще один чек ляжет на мой счет. Еще один день, когда я не почувствую ничего своего.
Тихий мелодичный звон пронзил тишину. Голографический проектор на моем запястье ожил, и в воздухе соткалась полупрозрачная фигура. Барон Корвус. Даже в виде призрачного изображения он умудрялся источать ауру власти и застарелого порока. Его лицо, гладко выбритое и неподвижное, как у античной статуи, не выражало ничего, но холодные серые глаза смотрели прямо в меня, словно препарируя.
– Лилит, – его голос был бархатным, но с металлическими нотками, как шелк, натянутый на стальной клинок. – Ваш последний опус, «Осенний сплин», был… адекватен. Мои гости оценили его… предсказуемость.
Предсказуемость. Для него это было худшим из оскорблений. Мои пальцы, только что державшие пипетку с ювелирной точностью, непроизвольно сжались в кулак.
– Я устал от закусок, Лилит. Я устал от десертов. Моя душа требует основного блюда. Чего-то настоящего. Первобытного.
Я молчала, позволяя ему высказаться. В нашем деле умение слушать клиента ценилось не меньше, чем чистота экстракции.
– Мне нужен не суррогат, – продолжал он, медленно вышагивая в пределах проекции. – Не искусная имитация. Мне нужна подлинная, всепоглощающая страсть. Не влюбленность, не похоть. А то чувство, когда весь мир сужается до одного человека. Когда ради него ты готов сжечь и себя, и вселенную. Вы понимаете, о чем я?
Я понимала. Он просил о невозможном. Такие эмоции в чистом виде были редки, как самородный алмаз. Они не рождались в серых жизнях обитателей Подбрюшья, чьи сны были наполнены в основном тревогой о завтрашнем дне и глухим отчаянием. Такое можно было найти лишь в душе гения, святого или безумца. И стоило это соответственно.
– Это будет сложно, барон, – мой голос прозвучал ровно, без эмоций. – Такой материал… нестабилен. Он может оставить ожог на сознании потребителя.
– Именно ожога я и жажду, дитя мое, – в его глазах блеснул хищный огонек. – Я хочу почувствовать то, что давно забыл. Или чего никогда и не знал. Цена не имеет значения. Найдите мне это. Или я найду другого шеф-повара.
Проекция погасла, оставив в стерильном воздухе лаборатории фантомный запах его дорогого парфюма с нотками озона и крови. Заказ был брошен, как перчатка. И я, к своему стыду, почувствовала укол профессионального азарта. Создать блюдо из такой эмоции… это было вызовом, достойным моего таланта. Но где найти ингредиент? Официальные каналы Гильдии были бесполезны. Там все было рафинировано, очищено, безопасно. Мертвечина. Мне нужно было сырое мясо. А за ним можно было спуститься только в одно место.
Спустя час бесшумный грави-лифт нес меня вниз, сквозь слои города. За панорамным стеклом проплывали изящные шпили Игл, соединенные светящимися мостами. Мир порядка, чистоты и холодной, как космос, скуки. Мой мир. Или, по крайней мере, тот, который я считала своим. Затем лифт пронзил плотный слой технологического смога, и картина резко изменилась.
Внизу раскинулось Подбрюшье. Бесконечный, многоуровневый лабиринт из ржавого металла, бетона и переплетенных, как внутренности Левиафана, труб. Отсюда, сверху, он казался живым организмом, пульсирующим тусклым неоновым светом и испускающим клубы пара. Лифт замедлил ход, и я почувствовала, как меняется воздух. Ушла стерильность, появился густой, влажный запах озона, машинного масла и чего-то сладковато-гнилостного. Звуки, приглушенные в Иглах, здесь обрушились на меня – гул вентиляционных систем, скрежет металла, далекие крики и пульсирующий ритм подпольных клубов.
Двери лифта открылись в сером, безликом терминале. Я накинула на голову капюшон своего темного плаща, сливаясь с тенями. Здесь моя дорогая одежда и аристократическая осанка были меткой, мишенью. Я двинулась по узким, вечно мокрым улочкам, где неоновые вывески баров и нелегальных сно-салонов отражались в грязных лужах, создавая на земле калейдоскоп ядовитых цветов. Люди-тени скользили мимо, их лица были либо пустыми, либо искаженными гримасой усталости. Это были доноры. Ходячие сосуды, чьи ночные фантазии, страхи и радости питали вечный праздник наверху. Я видела их сны каждый день. Я знала их самые сокровенные тайны, но никогда не смотрела им в глаза. Они были для меня лишь сырьем.
Мой путь лежал вглубь одного из самых старых секторов, в «Книжный переплет» – район, где когда-то торговали бумажными книгами, а теперь продавали чужие воспоминания. В одном из самых глухих тупиков, за ржавой дверью без вывески, находилась лавка Иеремии. Архивариуса.
Внутри пахло пылью, озоном и сушеными травами. Свет был тусклым, исходил от нескольких старых ламп, освещавших бесконечные стеллажи, забитые не книгами, а сновидческими кристаллами. Они мерцали в полумраке, словно мириады пойманных светлячков, каждый – чья-то прожитая во сне жизнь. За прилавком, заваленным старинными проекторами и какими-то непонятными механизмами, сидел сам Иеремия. Сухой, сгорбленный старик, похожий на древнего паука в центре своей паутины. Его лицо было покрыто такой густой сетью морщин, что казалось, будто оно вот-вот рассыплется в пыль. Но за толстыми линзами очков его глаза были живыми, острыми и насмешливыми.
– Лилит Верескова, – проскрипел он, не поднимая головы от кристалла, который вертел в своих костлявых пальцах. – Какая редкая птица залетела в наш курятник. У аристократов закончились легальные развлечения?
– Мне нужен материал, Иеремия, – я подошла к прилавку, игнорируя его шпильку. – Особый материал. Высшей категории чистоты.
– У меня все высшей категории, – он усмехнулся, обнажив пожелтевшие зубы. – Для каждого товара свой ценитель. Что ищем? Легкую эйфорию? Приступ героического безумия? А может, тоску по океану для того, кто никогда не видел воды?
– Страсть, – сказала я, и слово прозвучало в этой пыльной лавке чужеродно, как живой цветок на свалке. – Настоящую. Всепоглощающую. Без примесей и суррогатов.
Иеремия замер. Его пальцы перестали вертеть кристалл. Он медленно поднял на меня взгляд, и в его глазах я впервые увидела нечто большее, чем цинизм старого торговца. Интерес. И, кажется, тень опасения.
– Это опасный заказ, девочка, – сказал он тихо. – Такие эмоции… они как неразбавленная кислота. Оставляют следы. Даже на таких, как ты.
– Клиент готов платить, – отрезала я. – И платить хорошо. У тебя есть что-нибудь?
Он долго молчал, изучая мое лицо. Казалось, он пытался разглядеть за моей холодной маской что-то еще. Наконец, он крякнул и, шаркая ногами, скрылся в глубине своей лавки. Я слышала, как он возится там, как что-то скрежещет и звенит. Это ожидание было пыткой. В этом месте, вдали от моей стерильной лаборатории, я чувствовала себя уязвимой. Каждый мерцающий кристалл на полках казался мне чьим-то укоризненным взглядом.
Наконец, Иеремия вернулся. В его руках была небольшая свинцовая шкатулка, покрытая сложным орнаментом. Он поставил ее на прилавок с такой осторожностью, словно внутри находилось сердце бога.
– Я не знаю, что это, – сказал он шепотом, и это признание от всезнающего Архивариуса значило больше любых заверений в качестве. – Нашел его у одного сборщика… вернее, на том, что от него осталось. Он был чист. Никаких следов наркотиков или ментальных усилителей. Но то, что было внутри… оно его просто выжгло.
Он медленно открыл шкатулку. Внутри, на подушечке из черного бархата, лежал кристалл.
И я замерла.
За свою карьеру я видела тысячи сновидческих кристаллов. Мутные, яркие, тусклые, с примесями, с внутренними трещинами. Но такого я не видела никогда. Он был безупречен. Небольшой, размером с мое сердце, ограненный природой в идеальную форму. И он светился. Не отраженным светом ламп, а своим собственным, внутренним. Глубокий, пульсирующий алый свет, который то разгорался почти добела, то угасал до цвета венозной крови. Пульсация была ровной, размеренной. Словно внутри него билось живое сердце. Я чувствовала его тепло даже на расстоянии.
– Что это за сон? – выдохнула я, не в силах отвести взгляд.
– Я не знаю, – повторил Иеремия. – Я пытался сделать поверхностный анализ. Эмоциональный фон зашкаливает. Плотность переживаний… такая, что мои сенсоры сгорели. Там все. Экстаз и агония. Ненависть и нежность. Все смешано в один концентрат такой силы, что… – он замолчал, подбирая слова. – Он живой, Лилит. Это не запись. Это… консервированная душа. И она очень, очень зла.
Я протянула руку, но старик перехватил мое запястье. Его хватка была на удивление сильной.
– Не советую. Это не ингредиент для твоего очередного коктейля. Это яд. Или проклятие. Отдай его Барону как есть, пусть сам разбирается. Если он выживет, заплатит тебе втройне. Если нет – город вздохнет с облегчением.
Его слова были разумны. Логичны. Это был самый безопасный и правильный выход. Но я смотрела на кристалл, на его живое, дышащее сияние, и чувствовала то, чего не чувствовала уже много лет. Любопытство. Чистое, незамутненное, детское любопытство. Профессионал во мне видел уникальный, совершенный образец. Художник во мне видел шедевр. А опустошенная женщина, спрятанная глубоко внутри, видела то, чего ей так не хватало. Жизнь. Настоящую, бьющую через край, пусть даже и чужую.
– Я беру его, – сказала я, и мой голос был тверд. – Назови цену.
Цена была чудовищной. Она опустошала почти весь мой резервный счет. Но я заплатила, не торгуясь. Иеремия с видимым облегчением перевел кредиты и отдал мне шкатулку. Ее свинцовые стенки едва глушили тепло, исходящее от кристалла.
Когда я вышла из его лавки обратно в сырые, неоновые сумерки Подбрюшья, мир показался мне другим. Более тусклым, более серым. Все его краски померкли по сравнению с тем алым огнем, что я держала в руках. Я прижимала шкатулку к груди, и мне казалось, что я слышу, как сквозь металл доносится слабое, ритмичное биение. Чужого сердца. Или, может быть, моего собственного, которое впервые за долгое время решило напомнить о своем существовании. Я знала, что несу в свою стерильную лабораторию не просто заказ для Барона. Я несу туда хаос. Искушение. И, возможно, свою погибель. И часть меня этого отчаянно желала.
Шепот в зеркальном зале
Свинцовая шкатулка лежала на стерильной стали моего рабочего стола, инородное тело в венах моей лаборатории. Все здесь было подчинено логике и порядку: инструменты – на своих магнитных держателях, реагенты – в пронумерованных ячейках криостата, свет – выверен до последнего люмена, чтобы не искажать цвет эссенций. А этот грубый, покрытый защитными рунами ящик был аномалией, вторжением хаоса в мой упорядоченный мир. Он нарушал геометрию пространства, притягивал взгляд, и даже его глухой свинцовый корпус не мог полностью сдержать ту вибрацию, что исходила изнутри. Тепло, едва заметное, просачивалось сквозь металл, словно от спящего зверя.
Я надела тонкие перчатки из нейропроводящего полимера, ощущая, как их сенсоры калибруются под температуру моей кожи. Мои движения были медленными, ритуальными. Работа – мой единственный ритуал. Я открыла шкатулку.
Алый свет хлынул наружу, но не рассеялся, а сгустился, окрасив хромированные поверхности лаборатории в тревожные, кровавые тона. Кристалл лежал на бархате, и его пульсация стала видимой, явной. Он дышал. Медленные, глубокие вдохи и выдохи света. Я машинально протянула руку, чтобы взять его, но остановилась в сантиметре от поверхности. Правило номер один: никогда не прикасаться к необработанному материалу без изолирующих инструментов. Эмоциональный фон может быть токсичен. Но этот… он не казался токсичным. Он манил.
Вместо этого я взяла сенсорный щуп, тонкую иглу из оптоволокна, и осторожно коснулась одной из граней кристалла. На голографическом мониторе справа от меня тут же побежали строчки данных, выстраиваясь в графики и диаграммы. Я ожидала увидеть хаос, шторм, пиковые значения на всех частотах. Но то, что я увидела, заставило меня замереть.
Это была не буря. Это была симфония.
Эмоциональные векторы не метались в агонии, а сплетались в сложнейший, гармоничный узор. Пик чистой эйфории был уравновешен такой же глубины отчаянием, но они не гасили друг друга, а создавали немыслимое напряжение, как две струны, натянутые до предела и издающие одну, пронзительную ноту. Воспоминания не были fragmented, разбиты на осколки, как это обычно бывало у доноров из Подбрюшья. Они были цельными, отполированными до блеска, словно драгоценные камни. Плотность информации превышала любой известный мне стандарт. Это был не просто сон. Это было произведение искусства. Завещание.
Я отключила щуп и откинулась на спинку кресла, чувствуя, как по спине пробежал холодок, не имеющий ничего общего с температурой в лаборатории. Иеремия был прав. Отдать это Барону – все равно что дать ребенку в руки заряженный плазменный резак. Корвус, со своей жаждой грубой, первобытной силы, просто разорвет эту тонкую ткань, выпьет до дна, как дешевое вино, и выбросит опустевшую оболочку. Он не оценит. Не поймет. Он осквернит этот шедевр.
Эта мысль была мне отвратительна. Впервые за долгие годы я почувствовала нечто похожее на праведный гнев. Гнев художника, который видит, как бездарь собирается уничтожить полотно гения. Этот сон заслуживал большего. Он заслуживал… понимания.
Правило номер два, самое главное правило онейрокулинара: никогда не пробовать сырой материал. Никогда не употреблять то, что готовишь для других. Это путь к безумию, к потере себя, к растворению в чужих жизнях. Я следовала этому правилу неукоснительно. Я была шеф-поваром, а не обжорой. Мое мастерство заключалось в отстраненности.
Но сейчас, глядя на дышащий алым светом кристалл, я чувствовала нечто иное. Не голод потребителя. А жажду исследователя. Профессиональное любопытство, доведенное до грани одержимости. Чтобы понять эту симфонию, мне нужно было услышать хотя бы одну ее ноту. Чтобы обработать этот материал, мне нужно было знать его вкус.
«Только дегустация», – сказала я самой себе. Шепот в стерильной тишине моей лаборатории и моей души. Один мазок. Одна капля на язык. Я возьму самую тонкую эссенцию, самую поверхностную эмоцию, просто чтобы составить сенсорный букет. Это не нарушение. Это часть работы. Тонкая калибровка.
Ложь. Сладкая, удобная ложь.
Я взяла молекулярный экстрактор – устройство, похожее на серебряный шприц с иглой тоньше волоса. Дрожащими руками – я, чьи руки никогда не дрожали! – я подвела кончик иглы к кристаллу. Он словно подался навстречу, и игла вошла в его структуру без малейшего сопротивления, как в теплую плоть. Я активировала забор. В крошечном резервуаре шприца собралась одна-единственная капля. Она светилась еще ярче, чем сам кристалл, концентрированный свет, жидкое солнце.
Я сняла перчатку. Моя собственная кожа показалась мне незнакомой, бледной и холодной. Я поднесла экстрактор к губам, замерла на мгновение, в последний раз прислушиваясь к голосу разума, который кричал об опасности. Но другой голос, голос изголодавшейся по чувствам пустоты внутри меня, был громче.
Я нажала на поршень.
Капля коснулась моего языка.
И мир взорвался.
Вкуса не было. Не было запаха. Было все сразу. Сначала – прикосновение. Не мое. Чужое. Грубая, шершавая ткань холста под кончиками пальцев. Запах терпентина и масляной краски, такой густой, что его можно было жевать. И восторг, острый, как осколок стекла, пронзивший меня, – восторг от идеально легшего мазка, от того, как из хаоса цвета на холсте вдруг проступило живое лицо. Рука, державшая кисть, была не моей – более грубая, с длинными, сильными пальцами, но ее радость стала моей радостью.
Вспышка.
Теперь я стоял на крыше под потоками искусственного дождя. Неоновый свет Оникса дробился в мириадах капель, превращая город в картину импрессиониста. Рядом со мной стояла она. Я не видел ее лица, но я знал его наизусть. Я чувствовал тепло ее ладони в моей. Смех, похожий на звон серебряных колокольчиков, коснулся моего слуха. Она запрокинула голову, ловя капли губами, и в этот момент мир не просто сузился до нее – он исчез. Была только она и эта секунда, растянувшаяся в вечность. Любовь. Не та приторная патока, которую я синтезировала для клиентов, а нечто дикое, соленое, как кровь, и прочное, как сталь. Чувство, которое не потребляло, а создавало целые вселенные в груди.
Вспышка.
Вкус дешевого, терпкого вина в грязном баре Подбрюшья. Грохот музыки, от которой вибрировали ребра. Жар спора о чем-то совершенно неважном – о смысле цвета, о ритме города, о будущем, которое казалось бесконечным и полным света. И снова она, напротив, ее глаза смеялись над моей горячностью, и в их глубине плескалась такая нежность, что перехватывало дыхание.
Я очнулась, стоя на коленях посреди лаборатории, вцепившись в край стола. В глазах стояли слезы. Мои слезы. Но причина их была чужой. Я плакала от красоты, которую никогда не видела, от любви, которую никогда не знала, от полноты жизни, которая никогда не была моей. Одна капля. Одна крошечная капля подарила мне больше, чем все двадцать девять лет моего существования.
Пустота внутри меня, которую я так тщательно драпировала профессионализмом и цинизмом, разверзлась, превратившись в бездонную, воющую пропасть. И она требовала еще.
Разум был мертв. Правила сгорели дотла в этом чужом огне. Остался только голод. Первобытный, всепоглощающий голод. Я больше не была шеф-поваром. Я была изголодавшимся зверем, который учуял запах свежей крови.
Я поднялась. Движения мои были резкими, лихорадочными. Я схватила кристалл со стола голыми руками. Он был горячим, живым, он пульсировал в моих ладонях, словно испуганное сердце пойманной птицы. Но я не чувствовала ни сострадания, ни страха. Только предвкушение.
Я поднесла его к губам. Грани кристалла были острыми, но я не обращала на это внимания. Я прижалась к нему, вдыхая его свет, его энергию. И я начала пить.
Это было не похоже на первую каплю. Это была лавина. Чужая жизнь хлынула в меня, снося все барьеры, ломая стены моей личности, затапливая каждый уголок моего сознания. Я была им. Я был Элиасом. Я видел свои руки, испачканные углем, создающие на бумаге ее лицо. Я слышал музыку, которую сочинял для нее, простую и светлую. Я чувствовал отчаяние, когда у нас не хватало денег на еду, и безграничное счастье, когда мы делили последнюю краюху синтетического хлеба, сидя на крыше и глядя на фальшивые звезды Игл. Вся его жизнь, его надежды, его талант, его любовь – все это стало моим. Я тонула в нем, растворялась, и в какой-то момент перестала понимать, где заканчивается Лилит и начинается он.
А потом пришла тьма.
Любовь и свет были лишь прелюдией. Основой этого нектара была боль. Невыносимая, всепроникающая, как космический холод. Образ Лии, искаженный ужасом. Тень за ее спиной с холодными, как у Корвуса, глазами. Бессильная ярость, сжигающая внутренности до состояния пепла. Горе, такое плотное и тяжелое, что оно, казалось, обрело физический вес и давило на меня, ломая кости, выдавливая воздух из легких. И ненависть. Чистая, дистиллированная, совершенная в своей разрушительной силе ненависть. Она была не горячей, а ледяной. Она замораживала кровь в жилах. Она была остра, как скальпель, и точна, как лазерный луч.
Кристалл в моих руках начал тускнеть. Я выпивала его до дна, вбирая в себя и свет, и тьму. Я чувствовала, как его структура распадается, как последние капли чужой души перетекают в мою. Я не могла остановиться. Я не хотела останавливаться. Этот яд был слаще любого эликсира.
Когда все было кончено, я разжала пальцы. На ладони осталась лишь горстка серого, безжизненного пепла. Он тут же осыпался на пол, смешавшись с невидимой пылью. Кристалл исчез. Сон был поглощен.
Тишина, наступившая после, была оглушительной. Я стояла посреди своей лаборатории, тяжело дыша. Мир вокруг был прежним. Хром блестел, свет был холоден, воздух стерилен. Но я была другой.
Я чувствовала, как по моим венам бежит не кровь, а жидкая энергия. Каждый нерв в моем теле гудел, как натянутая струна. Я закрыла глаза и смогла услышать гул силовых кабелей глубоко под фундаментом здания. Я чувствовала потоки воздуха, огибающие мебель. Я могла бы сосчитать пылинки, танцующие в луче света. Мои чувства обострились до нечеловеческого предела. Тело, которое всегда казалось мне лишь послушным инструментом, теперь ощущалось как совершенное оружие. Легкое, сильное, наполненное чужой яростью и чужой грацией. Я медленно подняла руку, и движение было плавным, текучим, как у хищника. Пальцы художника. Рука бойца.
Пьянящее чувство могущества захлестнуло меня. Я сделала немыслимое, нарушила все запреты, и в награду получила силу, о которой не могла и мечтать. Я победила. Я присвоила себе гения, его талант, его страсть.
Я рассмеялась. Звук был странным. Более низким, чем мой обычный голос, с хриплыми, рычащими нотками. Смех оборвался так же внезапно, как и начался. Что-то было не так. Ощущение чужеродности не исчезло вместе со сном. Оно осталось, укоренилось где-то глубоко внутри.
Я медленно подошла к большой зеркальной панели, встроенной в стену, которую использовала для анализа осанки и невербальных сигналов клиентов. Мое отражение было бледным, с растрепанными волосами и безумно блестящими глазами. Это была я. Лилит Верескова. Но что-то в выражении лица, в изгибе губ, в том, как напряглась линия челюсти, было… не моим.
Я вглядывалась в свои собственные глаза, в темные зрачки, и на одно ужасное, бесконечное мгновение мне показалось, что из глубины на меня смотрит кто-то другой. Незнакомый мужчина с горящими от ярости темными глазами. Его лицо на долю секунды проступило поверх моего, как двойная экспозиция на старой пленке. Черты его были резкими, измученными, но полными несгибаемой воли.
Я отшатнулась, ударившись спиной о стол. Инструменты со звоном посыпались на пол. Видение исчезло. В зеркале снова была только я, испуганная, с широко раскрытыми глазами. Галлюцинация. Побочный эффект от перегрузки. Мне нужно было успокоиться, принять нейтрализатор, стабилизировать свою психику.
Я закрыла глаза, пытаясь восстановить контроль, сосредоточиться на своем дыхании, на холодной стали стола под моими пальцами. Я – Лилит Верескова. Я – шеф-повар. Я контролирую эмоции, я их дистиллирую, я…
И тут, в абсолютной тишине моего собственного разума, я услышала его.
Это был не звук, не слово, произнесенное вслух. Это была мысль. Четкая, холодная, совершенно чужая мысль, прозвучавшая в моей голове с кристальной ясностью. Она не была похожа на эхо из сна. Она была здесь. Сейчас. И она принадлежала тому, кто только что смотрел на меня из зеркала.
Голос был ледяным, как сама ненависть, которую я испила. И в нем не было ни капли безумия. Только спокойная, хищная констатация факта.
«Наконец-то».
Первая трещина на фарфоре
Утро не принесло облегчения, только резкость. Мир, прежде приглушенный, отфильтрованный моим профессиональным безразличием, теперь обрушился на меня всеми своими острыми углами. Тиканье хронометра на стене звучало как удары молота по наковальне. Гудение системы жизнеобеспечения в стенах моей квартиры в Иглах, которое я не замечала годами, превратилось в низкий, вибрирующий вой, скребущий по нервам. Я лежала на шелковых простынях, не смея пошевелиться, и чувствовала, как по моим синапсам бежит чужая, беспокойная энергия, словно рой металлических насекомых. Сна не было. Только провал в темную, гулкую пустоту, а затем резкое возвращение в это состояние сверхчувствительности.






