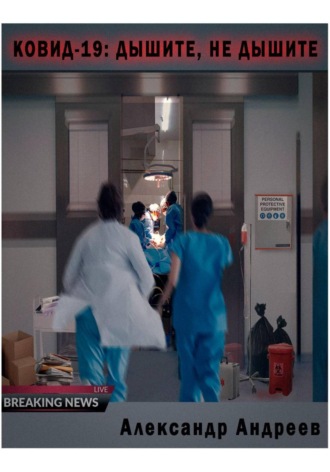
Полная версия
Ковид-19: Дышите, не дышите

Александр Андреев
Ковид-19: Дышите, не дышите
Пролог
Первого пациента с КОВИД-19 я увидел еще в январе 2020 года, когда никто не знал, что это за болезнь такая. Я тоже тогда не имел никакого понятия о ковиде, но, оглядываясь назад, теперь уверен, что это был мой первый случай.
Я дежурил в отделении скорой помощи в качестве реаниматолога, и меня позвали посмотреть женщину лет пятидесяти с сильной одышкой и низким давлением. Я спустился вниз незамедлительно – женщина лежала на больничной койке, тяжело дыша и закрыв глаза. С ней была ее семья – муж и двое уже взрослых детей.
К этому времени я был что ни на есть старший ординатор третьего года и думал, что знаю как минимум все (а втайне подумывал, что, может, даже и более того), и редко допускал какие-то сомнения в себе. В США ординаторов называют «резидентами», и, так как я веду повествование из этой страны, будет разумно сохранить оригинальное название.
Женщину поместили в реанимационную часть отделения скорой помощи, что было довольно неожиданно. Ее муж рассказал мне, что она почувствовала недомогание два дня тому назад, а до этого была абсолютно здорова. Без вредных привычек, никаких лекарств даже не пила. Все это было нетипично. Пневмонии не должны протекать так тяжело в пятьдесят лет, что в наше время непобедимой и всесильной медицины считается «молодым» возрастом.
– Очень приятно, меня зовут Иван, доктор из реанимации, очень приятно… – обратился я ко всем, конечно же, по-английски и, разумеется, с невероятным русским акцентом.
Я замялся на мгновение, а потом пожал руку мужу.
Пациентка была дезориентирована и не отвечала на даже самые простые вопросы, она смогла назвать свое имя, но затруднялась с возрастом и сегодняшней датой. Она все время засыпала, а уровень ее кислорода падал прямо у меня на глазах. Семья взволновано рассказывала, как еще вчера она была на работе и нормально себя чувствовала. К концу их рассказа я уже не смог ее разбудить, а сатурация упала ниже восьмидесяти…
Я попросил семью выйти и быстро обсудил план с врачами скорой.
Мы решили интубировать и ставить центральный катетер – скорее всего, для перестраховки, так думал я. После того как мы получили добро от семьи, врач скорой заинтубировал, а я поставил катетер. Заняло все это не больше двадцати минут.
Мы отправили пациентку в реанимацию, где ее ждала целая армия медсестер и врачей, которые о ней позаботятся. Обширная двухсторонняя пневмония на рентгене… Необычно для такого возраста, думал я, но что же, начнем антибиотики, и через несколько дней выздоровеет.
По причине рассеянности я далеко не всегда смотрел, что же потом случалось с пациентами в реанимации. Иногда смотрел, но чаще всего нет. Но так как уверенность в своих силах была у меня тогда на самом пике, я особенно не старался проверять правоту своих действий.
В конце концов, как старший резидент третьего года может быть не прав?
В общем, тогда я так и не посмотрел, чем закончилось дело с той пациенткой. У меня была еще пара дежурств на неделе, а потом в пятницу меня ждало собеседование в Бостоне с одним из госпиталей, который сотрудничал ни с кем иным, как Гарвардом.
Мечтой моей всегда было стать сосудистым неврологом, и эти три года в общей медицине были только первой ступенью на долгой-долгой дороге. Интервью прошло хорошо, и через несколько дней мне позвонили из Гарварда и сказали, что меня берут. Моя текущая резидентура по общей терапии заканчивалась в июне, а в июле меня ждали новые приключения в Бостоне в мире неврологии. Жизнь казалась прекрасной.
Стоял январь 2020.
В конце месяца я встретил Сэма, моего коллегу и хорошего друга, он был резидентом второго года, он обожал реанимацию и пульмонологию и был блистателен в этих областях.
– А помнишь ту молодую женщину, которую ты нам послал с большой пневмонией? – спросил он.
Я призадумался и, честно сказать, даже и не сразу вспомнил.
– А! – наконец воскликнул я. – Пятьдесят лет, здоровая, без вредных привычек… Что редко в этой части Бруклина… Как она? На следующий день выписали?
– Она умерла на следующий день… – глаза Сэма, обычно полные жизни и энергии, потускнели. – Так и не поняли почему…
Часть 1. Закат
1
Мы начинали новое десятилетие, и рубежи казались безграничными. Меня называли «гарвардским парнем», так как я был единственный на то время резидент госпиталя, который каким-то образом сумел туда проникнуть. Если честно, я и сам до конца не понял, как у меня это получилось. Думаю, что многим обязан в этом доктору Миллеру, моему программному директору, который позвонил туда и представил меня самым великолепным резидентом, что когда-либо ходил по земле. О нем я расскажу вам чуть позже…
Но в Бруклине я был как рыба в воде. Бруклин имел большую русскоязычную историю, и русский язык здесь был здесь вторым по популярности. Если вы отправитесь в южные районы Бруклина – Кенсингтон, Бенсонхерст, Шипсхед-Бэй и, конечно же, легендарный Брайтон-Бич, – вы встретите множество русскоговорящих людей. В магазинах с вывесками на русском языке вы сможете купить соленые помидоры, кефир, сметану, пиво «Балтика» и конфеты «Аленка», по которым непременно начнете скучать, если проживете в США более двух-трех лет. Культура – это мощнейшая основа нашей психологии, и удивительно, как совершенно тривиальные вещи – вроде бабушек из Восточной Европы, гуляющих с внуками и кормящих лебедей на канале, – становятся настолько милы душе.
Февраль выдался мягким, одним из самых теплых за многие-многие годы. Снега почти не было. Весь мир говорил про вспышки нового коронавируса в Китае, я постоянно слышал имя неизвестного мне до этого города Ухань… Я находился на «образовательном» блоке по радиологии. Он заключался в том, что я должен был приходить в рентгенологическое отделение и сидеть с врачами-радиологами, наблюдая как они читают рентгены, УЗИ, КТ- и МРТ-снимки. Я быстро открыл, что здесь во мне, в отличие от скорой, стационара или реанимации, никто особенно не нуждался – жизнь шла своим медленным чередом, радиологи и их лаборанты справлялись тут прекрасно и без меня. В один прекрасный день я не явился в отделение, решив проверить, заметит ли кто-нибудь.
Никто не заметил, а если и заметил, то не стал меня разыскивать. Я начал ходить через день, а потом исчез насовсем. Это была прекрасная возможность научиться чему-то новому и узнать больше о мире радиологии, которую я всегда любил. Но что может быть лучше, чем просто остаться дома.
Система медицинского образования в США – та самая легендарная система резидентур, кующих ведущих специалистов в медицинском мире, – построена на тяжелом труде, и резиденты здесь работают по восемьдесят часов в неделю, иногда по четырнадцать дней без продыху. Но все-таки федеральные органы требуют, чтобы у резидентов были определенные «образовательные» циклы, и госпитали обязаны это выполнять. Такие образовательные циклы случаются довольно редко, поэтому большинство резидентов используют их в качестве мини-отпуска, чтобы просто прийти в себя. Интересно, что само слово «резидент» по-английски означает «проживающий».
В каком-то смысле мы действительно проживали в больнице. Я думал, что в Гарварде будет по-другому, но там оказалось еще тяжелее. Так закаляется сталь, как говорится.
После одного из моих визитов в радиологию, где я полдня сидел в темной комнате, смотря на КТ и МРТ разных отделов брюшной полости, абсолютно ничего не понимая, я отправился в главный корпус госпиталя поздороваться с друзьям и коллегами.
Я встретил Тревора Рахина, высокого парня невероятно британского вида – он так же, как и я, был резидент третьего года. Тревор всегда носил круглые очки, всегда что-то читал по медицине и постоянно делал тесты, над чем я не уставал подшучивать. Его мать была ирландского происхождения, а отец – пакистанского. От матери он получил свою английскую красоту, а от отца – ум и фамилию Рахин.
Что удивило меня в Треворе Рахине в тот день – он был в маске-респираторе класса N95, которая защищала от аэрогенных инфекций, таких как корь, туберкулез и, возможно, даже коронавирус…
– Тревор, – сказал я ему прямо. – Ты что, с ума сошел вконец?
– А что? – спросил он совершенно искренне.
– Ты что, книжек перечитал своих?
– Ты про респиратор? – наконец-то понял он. – Тебе тоже советую его носить… И всем советую… Слышал, что в Санта-Кларе умерла женщина пятидесяти семи лет… КОВИД-19 подтвержден. Скоро и в Нью-Йорке будет.
– Да ладно тебе! – все еще улыбался я, хотя в памяти мгновенно вспыхнуло лицо той женщины, которая умерла в реанимации несколько недель назад. – Ну даже если и доберется… И что будет?.. Здравоохранение в США справится с любым коронавирусом. У нас столько ресурсов и столько возможностей…
Тревор скептически посмотрел на меня и удалился, продолжая продолжив обход больных. Он явно не разделял моего оптимизма, и я не понимал почему. Я много раз ошибался в жизни и до пандемии, и после нее, но, наверное, самой большой моей ошибкой было пренебрежение угрозой КОВИД-19.
Я встретил многих друзей и коллег, здороваясь и перебрасываясь короткими фразами. Короткими – потому что умением говорить длинными фразами на английском я тогда не владел. Я встретил Доктора Машу, так ее все и называли – она была старшим врачом, окончившим резидентуру больше десяти лет назад. У нее были рыжие волосы и невероятно добрые зеленые глаза. Она была родом из Крыма, но уже давным-давно жила в Нью-Йорке.
Доктор Маша всегда оставалась в госпитале до позднего вечера, десятки раз проверяя всю информацию о больных, разговаривая с ними и их семьями, иногда она даже сама брала кровь, несмотря на все наши протесты.
– Что вы думаете, Доктор Маша, по поводу коронавируса? – спросил я. Какая-то тень закралась ко мне в сознание, и я не мог отогнать ее.
– Не понятно ничего, – вздохнула она, не отрываясь от экрана компьютера, где были бесконечные чарты с всевозможной информацией о ее больных. Она всегда была немного взволнована, но я заметил, что взволнованность ее увеличилась после моего вопроса. – Трудно сказать… Кто его знает… Бог даст, может, все обойдется…
Меня немного обеспокоил ее ответ, но я отнес это к ее тревожной натуре.
2
Я много гулял тем февралем, думая, размышляя, строя планы о будущем. Великие планы. Как я уже говорил, мне тогда казалось, что мир – это прекрасное место и будущее полностью принадлежит нам, молодому поколению, которому только что стукнуло тридцать. 2019 был прекрасным годом, и я ожидал только лучшего впереди.
Мы с женой жили в Кенсингтоне, одном из районов Южного Бруклина, наверное, наиболее американского из всех. Моя жена Лена выбрала самое новое из всех зданий в этой части города. Когда мы въехали в нашу квартиру, в здании только-только заканчивали ремонт. Это был по большей части еврейский район, прямо рядом с нами находилась еврейская школа с надписями на иврите.
Район был великолепный во многих аспектах. Прямо перед нашим домом находилась однополосная сервисная дорога, а сразу за ней была аллея со скамейками и высокими платанами. Платаны отгораживали нас от многополосной автострады, по которой неустанно мчались автомобили через весь Бруклин.
На востоке на многочисленных маленьких улицах находились большие частные дома с широкими крыльцами и просторными дворами, они были слишком шикарны для резидента третьего года, и я мог только мечтать о них, прогуливаясь мимо по тихим, уютным улицам, усыпанным разноцветными листьями платанов и покрытым лужами после растаявшего снега. На северо-востоке находилась улица Кортелью, там в ряд выстроились бары и рестораны – здесь в основном жили американцы. А на севере, буквально в пятнадцати минутах ходьбы от нашего дома, располагался второй по знаменитости парк в Нью-Йорке – Проспект-парк.
Вокруг нас царило уникальное сочетание множества культур со всего мира, и каким-то образом все они гармонично складывались в единое целое. В пятницу вечером ортодоксальные евреи гуляли по улицам в длинных пальто и высоких шапках, по аллеям бегали дети, перекрикиваясь друг с другом на русском, а в барах на Кортелью пили коктейли и крафтовое пиво веселые американцы.
Я чувствовал себя здесь дома, но мне было удивительно, как такой огромный и загадочный город так быстро принял меня. Я гулял по его аллеям и улицам, доходил до парка и возвращался на улицы, ходя между домов, забредая иногда в тупики. Сложно было даже представить, что весь этот мир сложится в коллапсе и сорвется в черную дыру уже через полтора месяца.
Я купил себе гитару, решив все-таки научиться достойно на ней играть. Гитара была светло-синего цвета и была моментально одобрена Леной, как предмет, украшающий интерьер. Наверное, вы уже догадались, что играть я толком так и не научился, зато хотя бы интерьер улучшился.
Мой радиологический цикл состоял не только из философских прогулок и «виртуозной» игры на гитаре. Я продолжал дежурить. Дежурств было много, иногда меня ставили в реанимацию или приемное отделение скорой по выходным, иногда я вызывался сам – за это платили дополнительные деньги, которые на дороге не валялись. Мне еще нужно было чинить мою машину, которую я ободрал в гараже почти в первый же день после ее приобретения…
Кардиологическая реанимация была, пожалуй, моим любимым местом для дежурств, особенно по ночам. Там мы подружились с Сэмом, который стал впоследствии одним из самым близких моих друзей. Сэм был уникальным человеком с не менее уникальной историей. Он происходил из индийской семьи, но родился в Амстердаме, а вырос на Лонг-Айленде – фешенебельном продолжении Бруклина и Квинса, уже не являющимся частью Нью-Йорк-Сити. Лонг-Айленд был местом больших пространств, лесов, пляжей, гольф-клубов и небольших чистых, спокойных городов, где люди жили совершенно нормальной жизнью, избегая бешеных ритмов мегаполиса.
Сэм впитал в себя эту культуру – он был всегда невозмутим и спокоен и не любил спешку и суету. Он был учтив и гостеприимен, что было совершенно не характерно для Бруклина, он любил пульмонологию и опубликовал больше двухсот научных статей в этой области. Сэм умел оставаться рассудительным в любой критической ситуации, что принесло ему блестящую репутацию в области реаниматологии, но что больше всего меня удивило в нем… В какой-то момент своей жизни Сэм решил, что история его жизни недостаточно уникальна и отправился учиться в медицинский институт в Польшу. Там он глубоко проникся восточноевропейской культурой, влюбился в польских девчонок – настолько, что даже выучил польский и стал свободно на нем разговаривать. Как мы шутили, за шесть лет медицинского института он выпил столько водки и съел столько соленых помидоров, что сама его ДНК стала как минимум на тридцать процентов польской.
Интересно, что все славянские языки имеют общую базу, и многие слова – особенно существительные – очень похожи или же вообще одинаковые. Как вы уже, наверное, заметили, в нашем госпитале было много докторов из самых разных стран Восточной Европы, это была его уникальность.
У нас было много докторов из России, Украины и Белоруссии, эти три страны были главными экспортерами молодых специалистов, но были также и врачи из Польши (куда я включил и моего друга Сэма), Сербии и Молдовы. К нашему блоку присоседились и резиденты из Грузии, Армении и даже Киргизии. Большинство из них говорило на русском. У тех, кто не говорил, я учился другим языкам. Дежуря по ночам в кардиореанимации, мы с Сэмом изобрели словесную игру – искали общие слова между польским и русским.
– Как будет корова по-польски? – спрашивал я.
– Krowa, – отвечал мне Сэм, и мы смеялись.
– А как будет волк?
– Wilk!
– Почти одинаково! А как будет кот?
– Kot!
– Одинаково!
Как выяснилось, все матерные слова были тоже одинаковыми. Что я заметил, во всех славянских языках присутствовало слово «добро» и имело одинаковое значение. Очень похожими были слова, означающие какие-то глобальные явления или вещи, например – Бог, небо, вода, дом, правда.
– А как будет белка? – спросил я, ожидая похожее слово.
– Wiewiórka! – выпалил Сэм.
Я совсем не ожидал такого ответа и начал смеяться, все громче и громче. Сэм присоединился ко мне, и мы стали смеяться навзрыд. Вивьюрка была совсем не похожа на белку, но это было идеальное слово, прекрасно описывающее этого зверька. Белки в Нью-Йорке были, кстати, повсюду – как у нас кошки.
Медсестры поглядывали на нас как на сумасшедших, но мы были не первые и не последние сумасшедшие резиденты на их веку. Кардиореанимация по ночам в большинстве случаев была крайне спокойна и потому считалась довольно престижным местом – здесь работали медсестры, достигшие пика своей карьеры, как правило, им было уже за пятьдесят. Молодых медсестер сюда не брали – их заставляли сначала несколько лет бегать в стационарах.
Кардиореанимация была абсолютно новым отделением, выполненным по самым современным стандартам – все палаты были одиночными, размером почти с мою однокомнатную квартиру в Кенсингтоне, отделенные от общего блока прозрачными стенами и дверьми. Заходя сюда, я ощущал себя почти что в Гарварде, на вершине научной и технической мысли. Но кардиореанимация была большим исключением из правил.
Наш госпиталь находился в бедном районе Восточного Бруклина, где в основном жили иммигранты из карибских стран, и он во многом полагался на поддержку города и штата. В целом госпиталь находился в приемлемом состоянии, особенно на глаз провинциального русского парня, но отделения неотложной помощи и общей реанимации требовали немедленного ремонта и модернизации. Особенно учитывая огромный поток пациентов через эти отделения, который был непомерно высок даже до начала пандемии. Все доктора открыто об этом говорили, а руководство госпиталя слушало, кивало и… Как полагается высшему руководству в любых странах – ничего не делало.
Удивительно, как некоторые вещи остаются такими же, неважно, сколько континентов и океанов их разделяет.
Я отправился смотреть кардиологическую консультацию в отделении неотложной помощи, это входило в обязанности старшего резидента кардиореанимации по ночам. Сэму я поручил принять нового пациента, которого нам собирались отправить из ангиографии. У пациента был обширный инфаркт миокарда, и ему только что поставили три стента. Он все еще был интубирован и находился на нескольких прессорах[1], чтобы поддерживать давление. В целом картина выглядела тревожно, но Сэм был более чем готов с этим справиться. Он поправил маленькие прямоугольные очки в тонкой оправе, коснулся легкой щетины и стал внимательно смотреть в экран компьютера, читая о новом больном. Медсестры начинали суетиться, расстроенные, что их полусонное времяпрепровождение было прервано.
Я кивнул Сэму и покинул отделение. Кардиореанимация находилась на девятом этаже и плавно переходила в кардиологический стационар. Здесь палаты были уже двухместными, но ремонт все же был относительно свежим. Полы блестели чистотой, а стены были покрашены в приятные карамельные цвета. Я спустился вниз на первый этаж, где находилось зловещее отделение скорой помощи.
Чтобы добраться до него, требовалось пересечь вестибюль госпиталя, который тоже был чистым и сверкающим. Я прошел по недавно отполированному полу, отражающему свет ламп на высоком потолке, прошел круглосуточное кафе и оказался перед большими массивными дверями, ведущими в неотложную помощь.
Меня всегда немного бросало в дрожь перед тем, как я туда входил, еще даже до начала пандемии. За этими дверьми начинался совершенно другой мир. Я нажал на кнопку, и двери распахнулись, открывая мне вид на узкий, маленький коридор. По левой стороне находился КТ-сканер, там шла битва между медсестрами, рентгенолаборантами и резидентами скорой помощи. Я пронесся вперед, стараясь даже не думать, что там происходит. Я даже задержал дыхание.
В конце концов я оказался в большом квадратном помещении, где повсюду вдоль серых стен расположились портативные койки, на которых лежали больные со всеми диагнозами, что только существовали в медицинских книгах. Здесь было несколько отдельных палат, но не больше десяти – туда клали только тяжелых пациентов.
Но как было разобрать, кто тяжелый, кто средний, а кто легкий, когда в отделении их было уже больше ста и при этом продолжали поступать новые?..
Критические пациенты, требовавшие реанимационного уровня, помещались в отдельный блок в дальнем углу отделения скорой, там находились четыре койки, отгороженные от остального мира пластиковыми шторами, и они почти никогда не пустовали. По крайней мере, я ни разу за два с половиной года такой ситуации не встретил.
Отделение скорой представляло собой огромный квадрат, а в его центре за невысоким ограждением находился еще один квадрат – здесь располагались рабочие места с компьютерами, холодильники с лекарствами и боксы с медицинским оборудованием. Тут сидели медсестры, санитарки, регистраторы и, конечно же, доктора. Хотя «сидели» – это совершенно неправильное слово для этого места.
Тут шла непрерывная война. Война между землей и небом, между всеми и вся.
– Что ты смотришь на меня, bitch[2]?! – закричала женщина лет сорока на регистраторшу. Она сняла куртку и бросила ее на пол. – Ты специально задерживаешь меня тут, я знаю тебя, bitch. Я тут умру сейчас, пока ты копаешься!
– Метадон[3]! Метадон! Метадон! Мне нужен мой метадон! – скандировал мужчина лет шестидесяти, уже переодетый в больничный халат, лежащий на койке у стены. Он посмотрел на меня пустыми глазами. – Док, дай мне метадон!
Я развел руками и прошел вперед, разыскивая того больного, на консультацию которого меня сюда позвали. Но это было не так-то просто. На том месте, где он должен был лежать по данным компьютера, находился уже другой пациент. Это была молодая девушка, у нее были длинные красные ногти и накладные ресницы. Она громко разговаривала по телефону, рассказывая кому-то о том, как ужасен этот госпиталь и что она, скорее всего, скоро здесь умрет. Увидев меня, она, однако, улыбнулась и даже, кажется, чуть подмигнула. Я извинился и сказал, что ищу другого пациента, что ее снова рассердило.
Впереди стоял знакомый доктор, высоченный мускулистый парень, вдвое шире меня в плечах, он был тоже резидентом – но не в медицине, как я, а в скорой помощи. Его звали Роб. Несмотря на мощнейший внешний вид, он был на удивление учтив и скромен, особенно с пациентами. Он стоял рядом с больным на кресле-каталке. Больной требовал от Роба разрешения пойти домой.
– Тут у вас зоопарк! – вскричал больной. – Я жду рентген уже три часа! С меня хватит! Я иду домой!
– Я понимаю вас и приношу извинения, – вежливо сказал Роб, который до своей медицинской карьеры выиграл несколько чемпионатов по бодибилдингу. – Мы делаем все, что можем… Но опасность в том, что с вашим заболеванием мы не крайне не рекомендуем вам идти домой…
– Я подпишу отказ от лечения!
Отказ от лечения требовался от каждого пациента, который собирался покинуть госпиталь против медицинских показаний. Такой документ был крайне полезен в случае, если пациент потом подаст в суд на госпиталь, что иногда случалось.
Роб заботился о пациентах, несмотря на всю тяжесть своей работы. Он все еще тщетно пытался убедить больного остаться и подождать рентген, как в коридоре оказалась Сара – старший резидент скорой и его начальник этой ночью. Она была невысокого роста, с длинными кудрявыми волосами и двумя полыхающими огнями вместо глаз. Каким-то образом она выглядела намного страшнее исполинского Роба. Сара уже держала в руках бумагу об отказе от лечения.
– Пускай подписывает и уматывает! – громко сказала она и сунула бумагу в руки Роба. – У нас тут и без него хватает дел.
Пациент хотел что-то сказать, но передумал, встретившись с огненным взглядом глаз Сары.
– А кому вам нужна кардиология?.. – спросил я ее, почему-то будучи уверенным, что она знает.
– Первая реанимационная койка у стены, – выпалила она и исчезла.
Я пошел дальше, ступая по старому облупившемуся линолеуму. Одного из больных начало рвать прямо на пол. Следующий больной непрерывно стонал. Следующему ставили венозные катетеры прямо тут, среди всеобщего хаоса…
– CODE STROKE EMERGENCY ROOM[4]! – раздался голос по громкоговорителям.
Я увидел, как Роб и две медсестры покатили нового пациента в КТ-сканер. Рядом с ними из воздуха возникла Сара, отдающая приказы. Я прошел отделение травмы, которое по сути было всего лишь комнатой – по размеру не больше палаты нашей кардиологической реанимации. Я увидел там кричащую девушку, одежда которой была покрыта кровью. Рядом с ней стояло двое полицейских. Она была в наручниках.
Это была обычная ночь в отделении неотложной помощи Бруклинского университетского госпиталя. Ничего из ряда вон выходящего. Такое было здесь часто, а иногда бывало и хуже.



