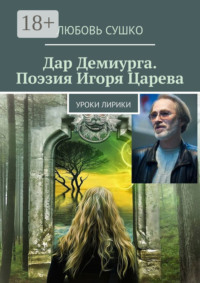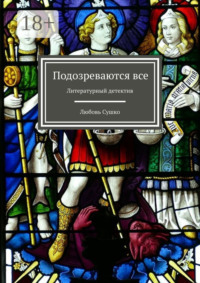Полная версия
Мой Александр Блок. К 145-летию со дня рождения поэта
И музыка заставила встрепенуться всех троих. Он обратил свой взор на эксцентричного пианиста, а она в это время привела в порядок свои одежды, которые скорее обнажали, чем прикрывали тело.
Но он меньше всего надеялся нынче увидеть здесь Пианиста, потому что накануне произошла странная стычка, он сам был тому свидетелем. Когда тот с упоением прочитал стихотворение:
Я сбросил ее с высотыИ чувствовал тяжесть паденья.Колдунья прекрасная! ТыПридешь, но придешь, как виденье!Ты мучить не будешь меня,А радовать страшной мечтою,Создание тьмы и огня,С проклятой твоей красотою!Я буду лобзать в забытьи,В безумстве кошмарного пира,Румяные губы твои,Кровавые губы вампира!И если я прежде был твой,Теперь ты мое привидение,Тебя я страшнее живой,О, тень моего наслажденья!Лежи искаженным комком,Обломок погибшего зданья,Ты больше не будешь врагом…Так помни, мой друг, до свиданья!Все замерли в зале, даже те, кто не слышал ни одного звука, и был далеко, они просто почувствовали, что происходит нечто, и невольно туда повернулись.
– Я ничего не поняла, – улыбнулась она, но в первый раз улыбка оказалась какой – то растерянной, ничего подобного не помнил поэт прежде, при ее гордыне и самоуверенности дикой. А Пианист вдруг встрепенулся:
– Мне нужно свою голову приставить вам, чтобы вы поняли.
Ярость заискрилась в прекрасных глазах его.
– Не стоит, – очень тихо произнесла она, развернулась и направилась к другим гостям.
Тогда поэту показалось, что его друг смертник, он даже мысленно попрощался с ним, но вот только пара дней прошла, а он здесь, он принят благосклонно снова и дарит им музыку, да кто и когда сможет их всех понять?
Нет, он, погруженный в историю и античность, не пытался даже этого сделать. А Афродита выходила из пены морской, и появилась она, но о том лучше не думать вовсе.
И не та ли самая Афродита первой взглянула в волшебное зеркало, которое убеждало ее в том, что она на свете всех милее, всех нарядней и белее, и когда Психея попробовала невольно вмешаться, что стало с бедной душой?
Странный был вечер, полуобнаженная ведьма, да что там королева ведьм и поэтов, музыка того, кто посмел публично намекнуть на то, что ее чары ему больше не страшны. Не о том ли мифе еще раньше вспомнил профессор филологии, и она, явно ищущая новых жертв, хотя ведь всем понятно, что ни один из них не станет ее возлюбленным. Даже если он сойдет с ума от страсти, которую она так стремится разжечь в его душе.
Она отойдет в сторону, обнимет своего мужа, и будет из глубины зеркал наблюдать за тем несчастным.
И из глуби зеркал ты мне взоры бросала,
И, бросая, кричала:– Лови
Но влюблялся ли в нее кто-то по-настоящему? И на этот вопрос не смог бы точно ответить поэт.
Что это, наука страсти нежной, которая никогда не коснется души, потому что Психея погублена Афродитой, она где-то в дремучем лесу, спит в хрустальном гробу, и еще не нашелся тот безумец, кто освободит ее и вернет в этот мир.
И блестящий музыкант, единственный, бросивший вызов ведьме, не сможет этого сделать, потому что они одного поля ягоды, в сущности, это игра, она рано или поздно разрушит прекрасные, но бездушные тела.
Они возвращались домой вместе. И Пианиста, которому вроде бы не о чем было особенно волноваться, наоборот, радоваться надо, но поэт видел, что на душе у него было странно тревожно. Он это сразу почувствовал.
– Она приняла тебя?
– Что, я не о ней, я о нем?
Он умел говорить загадками, поэт боялся спрашивать, о ком, о нем, вдруг закричит так же:
– Мне нужно свою голову приставить вам, чтобы вы поняли.
А то и что-то еще более резкое и неприятное. А он и без того в последнее время только и сносил удары по своему самолюбию.
Поэт решил, что Пианиста почему-то волнует муж ведьмы, хотя не мог ума приложить, что такого мог этот ученый червь натворить, он зануда, конечно, странная, но что о нем волноваться? Она навсегда останется с ним, и это решено раз и навсегда на небесах, да у него, кажется, и соперников нет никаких, это все так, забава.
Профессор с интересом взглянул на своего спутника, и упрекнул себя за то, что говорит с другом загадками, ведь тот вчера не был на вечеринке в знаменитой Башне так и не появился, словно чувствовал крах.
– Да при чем здесь ее муж, – словно прочитал чужие мысли он, – я говорю о первом поэте эпохи.
Голос звучал насмешливо, но насмешка казалась скорее горькой. Он и хотел, а не мог так искусно притвориться, потому что речь шла не о ведьме капризной, а о поэте, это совсем другое дело.
– И кто же себя гением или первым поэтом на этот раз объявил? – поинтересовался он.
– Да в том – то и дело, что не объявлял, он пришел и прочитал стихи.
– Какая невидаль, – все еще отбивался его спутник, – а кто их там не читает, хотя бы один нашелся.
– Прекрати, ты не веришь моему вкусу и чутью, ты думаешь, мне легко признать, что он первый.
– Не кипятись, когда я тебе не верил, но, сколько было народу, сколько было выпито в тот вечер.
– Я протрезвел, когда он начал читать, и потом еще несколько раз заставляли его читать «Незнакомку», и диагноз подтвердился.
Последняя фраза прозвучала почти зловеще. Тревога и в душе поэта нарастала, ему уже хотелось видеть того, о ком они говорили.
Встреча произошла через несколько дней. Он был красив, да что там великолепен, неотразим, хотя многое дал бы Поэт, чтобы хотя бы во внешности его был изъян.
И в стихах была та непередаваемая сила и прелесть, из-за которой можно было уже начать волноваться. Но он надеялся, что это пройдет, что свеча сгорит и погаснет даже скорее, чем они думают, потому что мало прогромыхать и на миг осветить небо невероятным светом, молнии ослепляют, но забываются быстро.
И все-таки, вспомнив, что он должен быть после обеда у ведьмы, он позвал с собой Рыцаря, пусть он полюбуется на нее, а она на него. Возможно, уже вечером он сможет поведать своему вспыльчивому Пианисту, что не так страшен черт, как его малюют.
Рыцарь хранил спокойствие, он даже благодарности не выразил за то, что тот взял его с собой.
***
Они оказались среди зеркал, как обычно. Но поэт странно заволновался, потому что, в какое зеркало, с какой стороны бы не взглянул на себя, во всем он проигрывал этому великолепному юнцу, а это был самый болезненный удар по его самолюбию.
Может потому, он не сразу заметил и ее появления, а когда заметил, то забыл о парне. Она стояла перед ними совершенно обнаженная. И зеркала отражали это великолепное тело слегка прикрытое светлыми волнистыми волосами. Взгляд метнулся на юношу. Тот оставался так же спокоен, только легкая улыбка появилась в уголках его губ.
– Простите, я не совсем одета, – говорила она, – усаживаясь в кресло, – я не ждала вас, – повернулась она к нему, – но рада, столько шума из-за вас было накануне.
– Это преувеличение.
– Но здесь и сейчас ту «Незнакомку» мы услышим.
Она повернулась к онемевшему поэту. Он не был рыцарем, и спокойствие хранить умел не особенно, потому оба они заметили, как он возбужден, красные пятна появились на щеках, он поспешно сел.
Но когда зазвучал тихий голос, он забыл даже о том, что ведьма обнажена, впрочем, служанка уже принесла полупрозрачный голубой халат и она в него завернулась, потому что в эффектных выходах больше не было необходимости.
Он дочитал стихотворение до конца.
Поэт сцепил пальцы. Они услышали аплодисменты ее незаметного мужа, который вышел и благосклонно слушал его. Впрочем, к середине стихотворения от спеси и надменности не осталось и следа. Все меняется даже в мире зеркал.
Он немного смутился оттого, что среди этих небожителей произвел такой фурор. И поспешно раскланялся с ним.
Он ушел куда-то во тьму, а они стояли все трое в полутемном зале среди зеркал и смотрели ему в след.
Гробовое молчание. И только зеркала хранили в глубине своей эту вспышку молнии, уже ставшую благоуханной легендой.
Потом он напишет ей, после всех бунтов и бурь:
Рожденные в года глухиеПути не помнят своего.Мы- дети страшных лет России-Забыть не в силах ничего.Испепеляющие годы!Безумье ль в вас, надежды весть?От дней войны, от дней свободы-Кровавый отсвет в лицах естьИзысканная прелесть миража. Дневник валькирии
Пролог романа «Королева декаданса»
Изысканная прелесть миража,Эпоха декадансовых страстей.В движенье каждом сумерки дрожат,Обволокла туманами гостей,И стала говорить с ним ни о чем,Но как же славно в пламенном бреду.И Скрябин нынче чем-то огорчен,И по стопам сказители бредут.И танец Саломеи на ветру,Когда одежд растают миражи,Куда-то королеву уведут,А голос обреченно так дрожит.Изысканная прелесть наготы,И наглости прелестная возня,От чаянья отчаянья цветыВсе срезаны, и боли не унять…Век страсти, превратившейся в ничто,Все Незнакомки в синем, ты однаВ зеленое закуталась пальтоИ вышла в полночь, полночь холодна.На Невском обезумевший от грез,Молчит создатель призрачных миров.Все рушится, без слез и без угрозУсталый мир зачах, он не здоров.Как здорово у дикой высотыОстановиться и кого-то ждать.Кидать куда-то мертвые цветы,И об ушедших после вспоминать.Самоубийство – это не протест,А тихая симфония потерь.Безумен Врубель, кто ж здоров теперь?И только вереницею смертейОтмечен тех времен усталый ход,Но обнажиться, в небесах паря.И знать, что бунт неистовый придет,И покачнется черная земля.Надменна гордость, спесь всегда ль права,Но больше нет ни Невского, ни снов.И только конь летит на Острова,И только стан твой обнимает ночь.Уходят все, и ужас корабля,Везущего в Европу русский люд,Раздавит в грозный час немой тебя,И тихий голос: – Нет, я остаюсь.– Погибните. – А вы умрете там.И ни о чем последний разговор,Валькирия шагает по цветам,По мертвым розам, и глядит в упор.Все это сон, но что реальней снов?Глухая ночь, над Невским, пустота,И призрачен Париж, но как-то нов,Все скомкано, а эта жизнь не та.Мы рвались все сюда, какая блажь,Но знали, что в Россию мы вернемся,А вот теперь Париж – немой шантаж,Он примет нас, но сразу отвернется.– Там умер Блок, сказал мне кто-то, боль.Но он был обречен давно, я знаю.Где Незнакомка, где его Любовь?И снова все о прошлом вспоминают.Есть только Невский, тьма его и свет.Валькирии внезапное явленье,Дыхание Невы, холодный снег,И пропасть грез, их ярость, и забвенье.– Мы мертвецы, нас не спасет Париж,И все-таки мы организм единый.– Валькирия. О чем теперь молчишь?Порыв в провал, и нервные мужчины.Ругался Бунин, а Куприн молчал,Рвалась назад безумная Марина.А для меня страстей немой оскал,Пожар, туман и пропасти лавина.Нам остается тягостный Париж,Замучен Блок и Гумилев расстрелян,И разве там ты с ними устоишь,Ты сможешь жить? Не верю, не уверен.Набоков о расстреле говорит,Его бы точно сразу расстреляли.Но нет, в Париже будут хоронить,Нам не вернуться, раз мы убежали.Валькирией обещанный нам райПохож на ад, и все-таки Вальхалла.Она парит, смеется: «Выбирай»Летела в бездну и крылом ласкала.В движенье каждом сумерки дрожат,Обволокла туманами гостей,Изысканная прелесть миража,Эпоха декадансовых страстей.Люба и все остальные женщины

Черный ворон в сумраке снежном,
Черный бархат на смуглых плечах,
Томный голос пением нежным,
Мне поет о южных ночах
А. Блок
Я знаю этих маленьких актрис,
Настойчивых, лукавых и упорных,
Фальшивых в жизни, ласковых в уборных,
Где каждый вечер чей-то бенефис.
А. Вертинский
Была метель, да такая, что и в двух шагах ничего не было видно. Спокойно можно было наткнуться на человека, проходившего рядом. Валентина спешила из театра в теплый дом, и хотела только поскорее добраться и согреться около камина. И забыть о ссорах, раздорах, чужих любовниках, и не сыгранных ролях, которыми заполнен был этот странный мир. Как утомительна эта жизнь. Но беда и состояла в том, что другой она не знала и знать не хотела.
Муж склонился над трудами своими вечными. Для него книги и чья-то давно забытая жизнь была значительно важнее, чем она, чем ее вечные проблемы. Самое большое, что он позволял себе – ее премьеры спектаклей. Он сидел там, но так торопился уйти, что ей оставалось рыдать на званых ужинах, придумывая для него самые веские оправдания. Они делают вид, что верят, и это не трудно было сыграть, но если бы не театр, она давно бы похоронила себя в этом особняке, который ненавидела со всей пылкой, нерастраченной страстью. А ведь она была еще совсем молода, хотя кто видел, кто помнил это.
В метели она наткнулась на кого-то. Наталья окликнула ее по имени.
Они служили в одном театре.
– Ты домой, а не пойти ли нам на поэтический вечер.
– Ты же знаешь, муж, – развила она руками, хотя больше всего боялась, что та пропадет в метели, не повторит своего приглашения. Но она была настойчива.
– А что он заметит твое отсутствие? Придумай что-нибудь, ведь он же не Арбенин, да ты и браслет не потеряешь. Мы можем уйти раньше.
И она согласилась, решив больше не испытывать судьбу.
Как же редко удавалось ей оказаться в таком обществе: поэты, актеры, художники. Какими красивыми, какими свободными они были или казались.
И она вдруг ощутила, что жива. Не играет чужую жизнь, не прозябает в собственном доме, не зная, куда себя деть, слоняясь из одного угла в другой, а живет, смотрит на кого-то, кому-то улыбается.
Правда, они были довольно странными людьми. Кто-то пел, кто-то кричал, кто-то так барабанил по клавишам рояля, что он готов был развалиться у всех на глазах.
Она поморщилась, слыша эти звуки, которые они называли музыкой, и не сразу поняла, что произошло. Там все время, каждую минуту что-то происходило. Наталья принесла фужеры с шампанским, и они о чем-то говорили, еще не ведая, что заставило всех замолчать. Это казалось невероятным.
– Что там? – спросила Валентина.
– Он пришел.
Интересно, кого тут не хватало? Уж точно не человека.
И она резко повернулась.
На мгновение только их взгляды встретились. Потом, когда она рассказывала, ей никто не верил, что видела она Его тогда в первый раз. Да и что удивительного? Кого она видела в те времена, с кем была знакома?
Он был равнодушен, ко всем восторгам и взглядам. Наталья лукаво улыбалась, и говорила, что у нее есть какие-то странные его стихи, ей посвященные, но мир перестал существовать, все исчезло и больше не имело никакого значения, кто и что говорил и делал.
№№№№
Наталья видела, какое впечатление он произвел на Валентину в тот вечер, и странное чувство ревности к нелюбимому человеку ужалило ее. А когда она исчезла вместе с ним, она даже вспыхнула и думала только о том, как вероломны мужчины. Домой пришлось отправляться в одиночестве, это казалось неприличным.
Она влетела к ней в уборную на следующий день раньше назначенного часа:
– Стихи от Блока! Блок посветил мне стихи.
Она была переполнена восторгами и так взволнована, что Наталье осталось только пожать плечами и взглянуть на его почерк, она его знала и не перепутала бы ни с каким другим:
В легком сердце страсть и беспечность,
Словно с моря мне послан знак,Над бездомным провалом в вечность,Задыхаясь, летит рысак.Снежный ветер, твое дыханье,Опьяненные губы мои,Валентина, звезда, мечтанье!Как поют твои соловьи…Наталья вспыхнула, она вспомнила недавнее, где тоже было о поцелуях, то, что ее возмутило больше всего. Тогда он говорил, что думал о снежной королеве, о поцелуе, который заморозит сердце, и может убить, и удивлялся тому, что она так плохо знает знаменитую сказку. Там и на самом деле ничего такого не было, а здесь дыхание, ее имя, явные намеки на связь. Может быть, он хотел, чтобы она увидела и ревновала. Хотя это было большой глупостью. Но та другая, уже не помнит никого ничего. Она не думает даже о собственном муже. Но она понятно, влюблена, а он, почему он подвергает ее такой опасности? Какая беспечность.
– Я так тебе благодарна за то, что мы пошли на этот вечер, – лепетала она, речь ее от восторга сбивалась, она и на самом деле готова была задохнуться.
Но ведь она не любила его, и все своим подругам сто раз это подчеркивала, так что же случилось теперь. Почему чужое счастье так на нее действует?
– Он так много говорит о мире, о грядущих бедах, я ничего не понимаю в этом, но он совершенно покорил меня с первого взгляда, да ты все и сама видела.
Она видела, и могла поверить, что он смотрел на нее смеющимися глазами и провожал до дома. И надо было сказать, что все влюблены в него, и он позволяет себя любить, и о том, что с такими восторгами его уж точно никак не удержать, но зачем, пусть порадуется немного, ей, бедняжке и без того, так мало выпало радостей в этом мире. Ученый муж такая скука, а она так наивна и глупа, что только такой тюфяк, погруженный в свои книжки, и может терпеть ее. А поэт совсем другое дело, он бросит ее, как бросал всех.
Она помнила вторжение его жены. Та почувствовала тогда настоящую угрозу, и спрашивала ее, готова ли она взять на себя все хлопоты по хозяйству, заботу о нем.
О чем разговор, она вообще не понимала, что и для кого она должна делать, и сказала только, что, в отличие от нее, не собиралась ревновать его к целому миру, и со всеми женщинами выяснять отношения.
– Даже если бы я его любила, это слишком утомительно.
Она так и не могла понять, обрадовалась ли та или огорчилась. Но у нее не было еще и мужа в придачу, о чем же думает Валентина.
– Зачем я ему? – верещала Валентина, – я боролась, я сердилась, я возмущалась, я смеялась.
И снова ничего не ответила Наталья. Только в глубине глаз ее появилась насмешка. Она хотела сказать о том, что рыдания еще впереди, но опять же не сказала этого. Всему свое время.
И снова откуда-то издалека долетел ее голосок:
– Я пою, я пою все утро, я видела его вчера, и встречусь с ним сегодня. Как мучает меня этот великий человек, сам не зная того.
Они скоро узнали все, что она даже стихи писать начала, вот уж чудеса-то невероятные.
И нет спасенья, нет возврата,В открытом море черный шквал,Душа звенит, тобой объята.Маяк погас. Девятый валОна смотрела в глаза Наталье. Та только усмехнулась, решив на этот раз быть откровенной.
– Не показывай им ему, не потому что стихи плохие, но он не любит поэтесс, уж казалось бы, Ахматова, но он все время подчеркивает, что понимает и принимает только актрис, вот актрисой и оставайся. Покажешь ему, когда сама захочешь с ним расстаться, или когда он заставит тебя сыграть разрыв.
Услышав все это, Валентина отпрянула от нее, как от ярко вспыхнувшего пламени. Она поняла вдруг, что и то, и другое может случиться с ней, как до сих пор она о том не думала.
Они столкнулись с ее мужем, он узнал о том, что давным-давно было известно всем, ярился, вызывал на дуэль.
– Он Пушкин, а не ты, дорогой, ты перепутал, надеюсь, Дантесом ты быть не хочешь, это черт знает что, – только и говорила она.
И эти слова остудили его. И на самом деле, перед ним был первый поэт, он почувствовал, что от переполнивших душу чувств потерял ориентацию в пространстве, и не хотел усугублять положение.
Ей пришлось сыграть разрыв, чтобы все немного успокоилось, а потом он уже сам умчался в метель с кем-то другим. Но прислал еще одно письмо-послание на прощание
И, готовый на новые муки,Вспоминаю те вьюги, снега,Твои дикие слабые руки,Бормотаний твоих жемчуга.Она понимала, что это реквием, и совершенно бесполезно что-то менять в мире, его тройка уже умчалась прочь, от нее и следа в метели не осталось.
Она же до конца своих дней сохранила глубокую привязанность к поэту и тяжело переживала его смерть.
Случайно столкнувшись с Натальей, она с ужасом говорила:
– Я видела его мертвым. В какой праздничный, залитый солнцем день хоронили его. Без отчаянья думать о смерти Блока нельзя. Блок- оправдание нашего времени, того, когда мы были молоды и счастливы.
Ничего не ответила ей та, которую он называл когда-то Снежной девой, она единственная смела не любить его. Но она подумала о том, что они, являя собой холод и страсть были двумя противоположными гранями его стихов и чувств и должны были странно дополнять друг друга. В тот день, она не стала говорить рыдавшей Валентине о том, что в своих дневниках он записал когда-то: «Для меня существуют Люба и все остальные женщины», каково было ей сознавать, что она относилась ко всем остальным? Теперь им вовсе нечего было больше делать.
Страшный мир! Он для сердца тесен!В нем твоих поцелуев бред,Темный морок цыганских песен,Торопливый полет комет.И визжала заря о любви

Зимы тогда были метельными, вьюжными, казалось, что сам дьявол, ухватив людские души, кружил их в невероятной пляске. Уж не Саломея ли готова была покорить безумного от страсти царя, чтобы выпросить у него душу пророка. И он бы снова отдал все, что она не попросит.
Снежная королева витала где-то высоко, но Поэту хотелось тайны, и он назвал ее Девой Метелей. Хотя с каких это пор он стал интересоваться девами?
И что могли принести ему, все испытавшему и все пережившему, девы, с их робкой застенчивостью, с их желанием убежать, приближаясь, когда кроме визга ничего не добьешься, и все-таки было в них что-то таинственное и первозданное, как и в этой метели.
– Девы, конечно, девы, если прекрасные дамы давно растаяли, и от них не осталось следа. Он точно знал, как поддержать ту невероятную славу, которая на него обрушилась. Посторонним кажется, что она явилась внезапно, так со стороны все и выглядело, и даже близкие не догадываются о том, что необходимо сделать для того, чтобы внезапность стала закономерностью.
Конечно, многое было дано с самого начала – исключительная внешность, талант, странная музыкальность, атмосфера профессорского дома, мать и тетки, которые в нем души не чаяли. Этого достаточно для начала, но потом нужны были мифы, дивные сказки. И он создавал их самозабвенно, а этому помогала его грандиозная слава, и метель, и та музыка, которая была слышна только ему одному в те дни удивительного вдохновения.
Даже ему порой казалось, что все в его жизни и судьбе происходило само собой, но ничего не бывает само по себе. И он это прекрасно понимал.
А в эту метельную зиму, когда растаяла Снежная Дева, он стал думать просто о деве, о юной девушке. Но они только смотрели широко открытыми глазами и ускользали. Они боялись чего-то неведомого, то, что им было непонятно, неизвестно, но ясно ощущалось, от него исходила невероятная сила зла и страсти. И они убегали от него, от которого никто никогда не посмел бы уйти.
Он с самого начала знал свою власть над их душами, над их думами и поступками, хотя для того, чтобы завоевать их не прикладывал никаких усилий, и если что-то предпринимал, то, скорее для журналистов, с их неутомимым стремлением создавать сенсации и сплетни.
Потом они будут допытываться и гадать, что может значить черная роза в бокале шампанского, и, видя его неотразимую улыбку, странно бледнеть и замолкать, и это при их разговорчивости. А то и значит, что они никак не могут подобрать слова, как назвать это, чтобы все оставалось в рамках приличий, хорошо, что есть язык условностей, ему никак и не нужно называть.
Он усмехнулся, и улыбка застыла в уголках губ. Неподвижное лица, маска ли это, которую он когда-то редко снимал, или это уже часть сущности. Да какая, в сущности, разница, главное, что его узнают все, даже те, кто далек от поэзии, они знают какие-то невероятные истории с ним связанные. Сам ли он их придумал и режиссировал, или это сделали его друзья – приятели, теперь в этом и не разобраться. Стоило только запеть Валентине, а ему потом написать несколько строк о ее пении, и на самом деле чудесном:
Валентина, звезда, мечтанье,Как поют твои соловьи.И пошло, поехало, говорят, что они умчались от ее мужа куда-то в метель. Он никак не мог вспомнить, было ли это. Но если взглянуть на ярость, нарисованную на лице ее мужа, знаменитого историка, то, вероятно, все было. А если не было, то это следовало бы придумать. Он ничего не комментировал, потому что все было в его стихах. И если они чего-то не понимали, то это не его забота.
Черный ворон в сумраке снежном,Черный бархат на смуглых плечах…Она и на самом деле была восхитительна, и не могла отказаться от такого приключения, да и кто мог? Только та сама непорочная дева, которая все чаще приходила к нему в последнее время в его мечтаниях.
О, девы, девы, каждая из них рано или поздно становиться восхитительной любовницей или сварливой женой, но это уж как получится. И столкнувшись с такой девой, он постарается удалиться и никогда не увидит этого превращения прекрасной бабочки в гусеницу, хотя должно было быть наоборот, но у женщин все не как у людей.