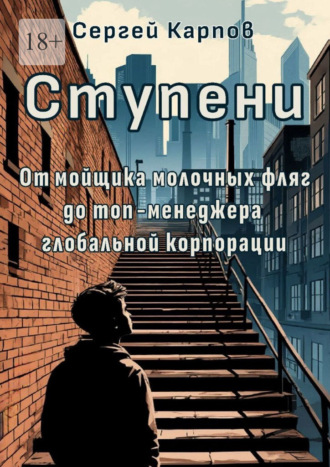
Полная версия
Ступени. От мойщика молочных фляг до топ-менеджера глобальной корпорации

Ступени
От мойщика молочных фляг до топ-менеджера глобальной корпорации
Сергей Карпов
Дизайнер обложки Полина Ажнина
© Сергей Карпов, 2025
© Полина Ажнина, дизайн обложки, 2025
ISBN 978-5-0067-9020-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ПРЕДИСЛОВИЕ
Выбор у меня был простой: стать полицейским, бандитом, алкоголиком-наркоманом – кому что больше нравится – или приткнуться куда-то на завод, пахать от зарплаты до зарплаты и грустить о своей жизни. Ну а какие перспективы у вчерашнего школьника, попавшего в жернова 90-х, которые перемалывали и мужиков покрепче, не то что желторотых юнцов? Сейчас я думаю – почему мне не захотелось принять унылую неизбежность и плыть по течению, изредка взбрыкивая ножками? Что спасло? Что позволило зацепиться за краешек призрачного шанса?
Любовь к звездам и космосу?
Книжки про индейцев и фантастика Кира Булычева и Стругацких?
Радиоприемник, который – если покрутить колесико – соединял меня с инопланетными цивилизациями, старательно сигнализировавшими мне что-то важное сквозь белый шум?
Однозначного ответа нет. Но в чем я уверен, так это в том, что если бы мне двадцатилетнему встретился сегодняшний я, мой путь – от выпускника технического вуза, который начал карьеру с мытья молочных фляг, до бизнес-консультанта с внушительным бэкграундом – был бы легче, ровнее, в обход многих кризисов и провалов. Хотя, пожалуй, именно этим и ценна моя история – лавируя в океане трудностей, ошибок и озарений, рискованных экспериментов и выверенных решений, я стал собой. И сегодня готов честно, называя вещи своими именами, поделиться опытом с теми, кто:
– чувствует в себе силы и страсть к переменам
– готов расти и масштабировать свои бизнесы
– стремится подняться на ступеньку выше, но не знает как
– ищет решение, способное вывести на новый уровень
– только начинает свой путь и нуждается в дружеском плече.
Обещаю, никакого назидательного тона – я не собираюсь вас учить, переделывать или обесценивать ваш опыт. Вовсе нет. Мы просто поговорим по душам и, возможно, мои истории помогут вам вспомнить что-то важное о себе, о ваших мечтах и планах, которые пока не удалось реализовать. Возможно, мои размышления для кого-то станут отправной точкой и направят по новому пути к целям. Возможно, мой опыт и результаты вдохновят на свершения, а если нужна будет поддержка, вы будете знать, к кому обратиться.
Я расскажу о том, в какой атмосфере прошло мое детство и чему меня научили лихие 90-е. Поделюсь секретной формулой успеха, которая срабатывает даже в, казалось бы, безнадежных обстоятельствах и выдергивает тебя из депрессивного поселка, где твоя судьба уже предрешена – тот самый небогатый выбор, что я упомянул в первых строках. Покажу изнанку жизни в Москве, куда ты приезжаешь совершенно один, и это сродни выходу в открытый космос – ты лицом к лицу встречаешься с гигантским городом, который может проглотить тебя на завтрак, а может дать все и даже больше. Если, конечно, тебе хватит смелости рискнуть.
Я рисковал постоянно.
Рисковал, бросая прямой вызов матерым мужикам на московском заводе, куда попал только благодаря счастливому стечению обстоятельств.
Рисковал, потребовав особого отношения на изнурительном собеседовании в отделе продаж крупной фирмы, где потом осваивал тонкости профессии с нуля, не имея профильного образования.
Рисковал, когда я, понаехавший, осмелился влюбиться в коренную москвичку и сделать ей предложение.
Рисковал, когда переходил из одной компании в другую – всегда на новые задачи, но адаптируя прежний опыт и держа в голове звезды, до которых хотел дотянуться с ранних лет.
Рисковал, когда брался за мега значимые проекты и в буквальном смысле нес свет на олимпийские объекты Сочи-2014, поставлял световое оборудование на стадионы Чемпионата мира по футболу 2018 года и множество других крупнейших спортивных мероприятий, параллельно выводя бренд Philips в лидеры рынка спортивного освещения в России и СНГ.
Рисковал, когда вместе с женой на сверхскоростях метался между всеми храмами Москвы, вымаливая жизнь нашей новорожденной дочери.
Рисковал, когда придумывал и запускал собственные бизнесы, лавируя между сотнями задач и контрактов.
Рисковал, когда совсем недавно решил выйти в свободное плавание и реализовать созревшую в глубине души потребность делиться опытом и помогать другим.
Я и сейчас рискую, когда пишу эти строки. Смогу ли я снова дотянуться до звезд – до ваших сердец? Скоро узнаем.
СТАРТ
Уроки детства
Пены – так называется местечко в Курчатовском районе Курской области, где я родился и вырос. Официально поселок носит имя Карла Либкнехта – наследие революции 1917 года, но до этого уже 300 лет люди называли свою землю Пены – в честь протекающей поблизости реки Пенка, да так и не отказались от исторического названия. «Рабочий поселок имени Карла Либкнехта» – такое даже на маршрутной табличке автобуса не поместится, да и выговаривать замучаешься, поэтому местные до сих пор живут в Пенах. Любопытно, что в Курской области есть еще одно село Пены – в Беловском районе, совсем крохотное. Если в моих Пенах в лучшие времена, в 80-х, было около двенадцати тысяч жителей, а сейчас – около восьми тысяч, то в соседних Пенах, до куда добираться примерно 130 километров, едва ли наберется тысяча человек. Глухая провинция.
Наш поселок Пены раскинулся вдоль левого берега реки Сейм, самой крупной реки в Курской области. Это всегда было тихое, уютное место, где практически все друг друга знали. Поселок довольно большой, благоустроенный – улицы асфальтированные, с тротуарами. Условно Пены делился на две части – городскую и деревенскую, где сплошняком частный сектор. Мы жили в «городской», среди многочисленных четырехэтажных «хрущевок». В начале 80-х в Пенах начали строить и девятиэтажные дома, в один из которых наша семья позже переехала.
Итак, Пены. Это деревянные заборы, роскошные палисадники с цветами, бесконечные огороды и грядки, где семьи выращивали картошку, огурцы и помидоры. Весной весь поселок превращался во что-то сказочное – цвело все и везде: яблони, вишни, черешня, груши, сливы… Над улицами плыли дурманящие ароматы, перетекающие из весны в жаркое и сухое лето, когда воздух был напоен яблоневым духом и чуть прохладными, пряными запахами трав. Потом на смену яркому лету приходила унылая и печальная осень, быстро сдающая позиции снежной и мягкой зиме, которая иногда превращала Пены в волшебную Нарнию, развесив снега по веткам деревьев и кустарников.
Две школы, детские сады, различные кружки, музыкальная школа. В Пенах действительно было все организовано для жизни. Отдельная история – районная библиотека. Можно сказать, мой личный храм. Паркетный пол, тропические растения в больших кадушках, огромные стеллажи с книгами и этот запах… Запах приключений, других миров, ярких характеров и историй, которые оживали на книжных страницах. Я читал запоем. Сперва все приключенческое – Жюль Верн, Майн Рид. Потом фантастику. Кажется, я перечитал вообще все, что было доступно в те годы. Стругацкие, Булычев, Андерсон, Гаррисон, Хайлайн…
Детство мое было счастливым. Ярким. Мы играли в «казаки-разбойники» и «вышибалы», став чуть старше – в «пекаря» и «клепушки». Бегали с самодельными шпагами после «Трех мушкетеров», мастерили луки после «Робин Гуда» и фильмов про индейцев. В лесу, среди бесчисленных воронок и землянок, оставшихся в наследство от Великой Отечественной, играли в войнушку. Ходили на железнодорожную станцию собирать порох, выкапывать патроны и мины. Зимой пожарная машина заливала для нас большой каток, на котором места все равно хватало не всем, поэтому «не поместившиеся» шли на замерзшее болото и играли там в хоккей. Лыжи – тоже обязательная часть курской зимы. Я и сам в детстве «заболел» этой темой и до сих пор катаюсь – не отпускает. А еще помню, как зимой, когда щедро насыпало снега, мы с ребятами строили снежные крепости и играли в снежки. Весной же, когда по улицам текли веселые и говорливые ручьи, мы пускали по ним бумажные кораблики…
Врезалась в память история, как мы с другом Сашей Синяковым нашли… мину. Мы дружили с раннего детства, в детсад ходили вместе, потом в одном классе учились, и оба буквально «болели» приключениями. Как и все ребята, пропадали в лесу, где куча землянок и воронок осталось со времен Великой Отечественной, искали порох, поджигали его – очень красиво в костре порох горел. От старших пацанов знали, что лучше всего искать неподалеку от железнодорожной станции, через которую шли и грузовые составы, и пассажирские. И вот мы с Саней, третьеклассники, в один из прекрасных теплых дней пошлепали на эту станцию.
Все было как обычно – копошимся мы в этом песке на насыпи, копаем, и вдруг – хвостовик от мины выглядывает. «О, класс!» – дружно обрадовались мы, потому что в хвостовике довольно много пороха, и принялись копать еще усерднее. Хвостовики-то мы уже находили и не раз, понимали, как они выглядят, но тут явно было что-то не так: копаем-копаем, а хвостовик не заканчивается и… переходит в тело мины.
Вот это удача! Мы с Саней в восторге, выдергиваем ее из песка – цельная, красивая такая, фугасная мина сантиметров сорок, наверное, в длину. Может, чуть побольше. Страха не было, наоборот – мысль стремительно закрутилась, генерируя гениальный, по нашим меркам, план. Решено – сдаем мину в школьный музей, получаем три рубля и всеобщее признание. Дело за малым – доставить мину к месту назначения.
К железнодорожной станции мы приехали на Сашкином велике. Он прыгает за руль, я усаживаюсь на багажник. Мину мы, умные дети, завернули в кофту, чтобы помягче было. И я вез ее на руках – по кочкам, колдобинам, ямкам. До самой школы. Это минут десять-пятнадцать в пути, и только сейчас я понимаю – любая из этих минут могла стать роковой.
Заходим в школу с укутанной в кофту миной, поднимаемся на третий этаж – в учительской никого нет. Школьный музей тоже закрыт. Времени уже ближе к четырем часам дня. Мы с Саней, понятно, расстроены – кто ж нам три рубля-то выдаст за находку? И вдруг осенило – поедем домой к нашей учительнице Евгении Даниловне, она-то нам и поможет мину сдать в музей, а там и три рубля, и честно заработанные вкусняшки. Грузимся на велосипед – Саня за руль, я с миной на багажник – и пилим к частному дому учительницы. Десять минут и мы на месте.
– Евгения Даниловна, Евгения Даниловна! – орем, довольные, заходя к ней во двор.
Она выходит навстречу, и – по мере того, как мы разворачиваем мину, наперебой объясняя, как мы ее нашли и что нужно срочно сдать сокровище в музей за три рубля – улыбка сползает с ее лица. Евгения Даниловна зовет мужа, который то ли бывший военный, то ли даже фронтовик. Он почему-то тоже не радуется нашей находке – волосы дыбом, побледнел. Муж учительницы аккуратно взял мину из моих рук, прямо в кофте, и пешком пошел в сторону отдела милиции, который был совсем недалеко. Мы с Сашкой бежим следом, уже подозревая неладное: мину забрали, денег не дали, идем в милицию – что-то явно не так. Всей компанией заходим в дежурную часть. Там дядька сидел в милицейской фуражке – мне показалось, что она приподнялась, настолько он был шокирован. А кругом люди, здание…
Дежурный буквально начал орать на мужа Евгении Даниловны. Суета, паника. Мину вынесли на улицу, двор оцепили, что-то начали с нашим сокровищем делать, а нас с Сашкой оставили внутри отдела и… сообщили родителям. Три рубля нам, конечно, никто не дал. Зато от души дали по жопе. Родителям поставили на вид, нас с Сашкой – поставили на учет в милиции. Правда, это все равно нас не остановило. Позже мы раскопали еще одну мину, но, уже наученные горьким опытом, сразу отнесли ее соседу, одноногому саперу, который выпилил нам из нее порох – в костре горело знатно.
А другие ребята, воодушевленные нашим успехом, тоже начали раскопки в районе насыпи и нашли огромную авиационную бомбу, которая попала в газеты, привлекла внимание саперов и спровоцировала поисковые работы в районе железнодорожной станции. Очень много тогда раскопали неразорвавшихся бомб и мин, по которым, оказывается, годами ездили пассажирские поезда. Выходит, с нас начались масштабные поиски и, возможно, они реально спасли чью-то жизнь, кто ж знает?
А мой друг детства Саша Синяков, с которым после школы дорожки разошлись, в 2024 году погиб на СВО.
Все-таки рванула та мина…
Но не только в лесу нам было интересно. В «центре» нашего поселка (так условно называли место, где расположились продуктовый и хлебный магазины, а также столовая-кафе) было все, что нужно пацану: леденец-петушок за пять копеек, мороженое за пятнадцать, ириски на развес и газировка, конечно. Такое простое детское счастье.
А центром притяжения для всех поселковых был большой парк с домом культуры и летней эстрадой, где регулярно выступала с концертами местная самодеятельность.
Лето в Пенах – отдельный вид искусства. Каждый день мы пропадали на реке. С нее же и кормились – роскошные раки, рыбу ловили самую разную на самодельные удочки, в крайнем случае довольствовались речными мидиями. Иногда к бабушке заскочишь за коржиками и обратно на речку. Дел у пацанов на реке всегда много: мы строили плотины на ручьях из камней и веток, сушили вымокшие насквозь штаны на солнце, чтобы родители не ругали, заряжались солнцем и небом.
Вечерами поселок затихал. Из открытых окон доносились звуки радиоприемников, а на лавочках у домов собирались соседи, чтобы обсудить последние новости или просто поболтать. Мы, дети, дотемна играли в прятки или просто бегали по улицам, пока нас не звали домой. И потом начиналось небо. Всегда миллион на миллион! Черное – насколько вообще можно себе представить плотный черный цвет, расшитое очень яркими, сияющими звездами, на которые я мог смотреть часами. Особенно летом.
В общем, в Пенах можно было снимать фильмы в лучших традициях советского кинематографа. Большой и жизнерадостный поселок, есть даже местная Красная площадь, несколько крупных заводов: машиностроительный, асфальтовый с техническим прудом, куда мы с мальчишками уже весной бегали купаться – вода в этом пруду прогревалась очень быстро, раньше других водоемов. Работал хлебозавод, сахарный комбинат, было свое строительно-монтажное управление и автоколонна. Своя крупная железнодорожная станция, через которую туда-сюда ходили составы на Украину, школы и детсады, дом культуры, развитое сельское хозяйство. Все люди при деле. У нас в промышленных масштабах выращивали свеклу – местные всегда называли ее бурак. В ходу был суржик – смесь русского и украинского языков. Люди дружелюбные.
Машиностроительный завод был самым крупным. Чего там только не производили: какие-то особые бочки, пластиковые изделия, формы для пищевой промышленности, даже чугунолитейный цех свой был. Моя мама работала на этом заводе инженером, папа тоже долгое время трудился на машиностроительном – был токарем-фрезеровщиком. Обычная трудолюбивая семья с правильными ориентирами – живи, работай, не мешай жить другим, будь добрым и открытым. И мне всегда казалось, что именно такой и должна быть жизнь – простой, понятной, когда день начинается по заводскому гудку и заканчивается им же. Серьезно, даже будильники не нужно было ставить – в Пенах жители ориентировались на заводской гудок, и каждое утро начиналось с какой-то очень спокойной и уверенной радости: вот новый день, у тебя есть дом, работа, семья, ты в порядке.
Я вспоминаю свое детство с благодарностью и теплом. Как все ребята, ходил в ясли, потом в детский сад, в школу – и везде был окружен интересными, светлыми людьми. Сейчас может показаться странным, но в поселке, сопоставимом по количеству населения с самым маленьким районом Москвы – Восточным, где насчитывается как раз около 12 тысяч человек, жизнь била ключом: кино крутили, проводились концерты и различные праздники, процветала самодеятельность – моя мама, кстати, тоже пела в заводском хоре. Учителя, врачи, инженеры, не говоря уже о руководителях предприятий, пользовались всеобщим уважением и считались местной интеллигенцией. Работяги тоже чувствовали себя отлично – работа есть, будущее прекрасно, стабильность и всегда есть чем заняться. Проявляй свои таланты и способности как хочешь – танцуй, пой, рукодельничай, в спортивных соревнованиях участвуй. Правда, было очень интересно наблюдать за тем, как смешивались советские и церковные праздники: толпы людей с шариками на первомайской демонстрации и потом те же люди с покрытыми платками головами на Пасхальной службе. Удивительно, как две, в советское время взаимоисключающие идеи – социализм и религия – уживались в одной голове, но никого это не смущало и уж тем более не становилось поводом для конфликтов.
И вот среди всего этого почти киношного великолепия расту я – увлеченный всем на свете, чуточку наивный, открытый и доверчивый паренек. Иногда мне казалось, что я целиком сделан из мечтаний и жажды приключений. И я их устраивал себе сам. Пока не научился читать, фанатично играл в солдатиков, разворачивая самые фантастические сценарии засад, атак и баталий. Теперь-то я понимаю, что уже тогда меня завораживали стратегии и коммуникации – все мои игрушечные герои каким-то образом взаимодействовали, реализовывали определенные сюжетные линии, и никогда их игрушечные отношения не были плоскими, что ли, однозначными. Еще одна детская любовь – настольные игры. Особенно приключенческий «Вестерн» и аналог «Монополии» – «Менеджер». Я даже сам делал настолки: мама приносила с работы большие листы ватмана, а я их разрисовывал кружочками и потом подписывал ходы. Хорошо получалось!
Сидеть за настолками мы могли часами. Обычно собиралась большая компания, и мы играли чуть ли не до посинения. Примерно такая же история была и с солдатиками, правда, там обычно мы играли вдвоем с моим другом детства Димой. Иногда нам родители «навязывали» Свету, мою младшую сестру. Для нее мы с Димкой стабильно разрабатывали отдельный сюжет – то госпиталем она заведовала, то рестораном.
Можно ли сказать, что, сам того не понимая, я играл в жизнь? Пожалуй. И детский опыт потом не раз пригодился мне в самых непростых обстоятельствах – в голове словно включались сигнальные огни, подсвечивающие шаги, которые необходимо предпринять, чтобы прийти к нужному мне результату. Но в детстве это были всего лишь солдатики и настолки…
Сказать, что у меня была какое-то четкое видение будущего – например, стану врачом и никак иначе – не могу. Мне было интересно все, хотелось примерить на себя кучу профессий, потому что в каждой было что-то волнующее.
Сначала я планировал стать космонавтом. Ну а кто из родившихся в 70-80-х не собирался лететь хотя бы на Луну? Наше детство было окутано романтическим флером космонавтики, и я на самом деле бредил звездами – мог часами разглядывать небо, верил, что где-то есть разумная жизнь, ловил «сигналы» посредством радиоприемника и пытался их разгадать.
Был у меня и план стать военным, как мой дядя. Мне очень нравилось, когда мужчина в форме, собран, дисциплинирован, излучает уверенность и серьезность. Ну и потом дед у меня – фронтовик. Вместе с ним я ходил на парады 9 мая. Дедушка надевал пиджак с орденами и медалями, они торжественно поблескивали на солнце, и мне виделся в этом особый, высший смысл – защищать жизнь.
В восьмом классе молнией промелькнуло желание стать пожарным – спасать других. Я даже чуть документы в воронежское пожарное училище после девятого класса не подал, но жизнь развернула в другую сторону. Впрочем, до «пожарного» периода еще нужно было дорасти.
…Самое яркое впечатление раннего детства – панический ужас. Мы с мамой возвращались домой, в нашу однушку на первом этаже четырехэтажной хрущевки, где компанию нам составляли муравьи, которых мы никак не могли извести, и армия кошек и котов, облюбовавших подвал дома и устраивающих в марте такие концерты, что наш деревянный пол вибрировал от этого ора. Идем мы, идем. Вечереет. Я по привычке таращусь в небо – звезды разглядываю. И вдруг вижу в вышине мерцающие красные огоньки. Мне показалось, что это летит ядерная ракета, и такой страх обрушился на меня, четырехлетку, такая паника. Заметался. Заплакал: «Мама, что делать?» Она меня успокаивала, обнимала: «Что ты, что ты, сынок! Все хорошо, это просто самолет, никакой войны, никаких ракет. Все в порядке». И этой своей заботой, теплом мама сохранила мою влюбленность в звезды, которая оказалась сильнее информационного фона – вспомните новости в начале 80-х, гонка вооружений, холодная война. По сути, мы росли в атмосфере страха, угрозы, но любовь все побеждает. И только в любви прорастают семена веры в себя.
Наверное, звезды для меня всегда были символом чего-то неизведанного, манящего, чего-то, к чему хочется дотянуться, бросить себе вызов – смогу или не смогу. И в детстве эта тяга выплеснулась в чтение. Сперва я освоил земные приключения – Жюль Верн, Майн Рид, острова, индейцы, а потом заболел фантастикой – Булычев, Стругацкие, Беляев, Ефремов. Вот где бескрайний простор и неограниченные возможности!
Вернувшись из очередного мысленного путешествия по космическим далям, я доставал радиоприемник, забирался на подоконник, смотрел на звезды и крутил настройки, вслушиваясь в шуршание неземных, как мне казалось, звуков и воображая, что это инопланетяне пытаются мне что-то сказать. А если с тобой говорит внеземной разум, разве что-то может оказаться тебе не под силу?
Вообще коммуникации – необязательно с инопланетянами – с ранних лет составляли важную часть моей жизни. И старт этому дала семья. Согласен с мнением, что в близком окружении ребенок проще и быстрее учится выстраивать отношения. А у нас в роду большие семьи – норма. У обеих бабушек было по четверо детей, каждый из которых создал свои семьи, народил детей. На лето в Пены приезжали сестры-братья из Харькова и из Подмосковья – вокруг меня всегда было много людей, и как раз в общении с ними я учился коммуникации. Общение было естественной частью жизни и позже из семейного круга переносилось во внешний мир. Обычно это получалось само собой, но всегда было составляющей моих личных стратегий, которые помогали достигать важных на тот момент целей и примерить на себя роль лидера, когда того требовала ситуация, – тоже.
Помню, как довольно долго «бодался» во дворе с одним мальчиком. Дима его звали. Мне было лет шесть, уже младшая сестренка родилась, за которой я присматривал во время прогулок. Вся детская тусовка нашего и соседнего домов сосредотачивалась в песочнице. Мы с моим другом, тоже Димой, с которым дружим с трех лет и по сей день, постоянно играли там в машинки да в солдатиков, присматривая за мелюзгой. Дима-враг со своим младшим братом, естественно, тоже в песочнице ошивался и постоянно нас задирал. Конфликты провоцировал его младший брат, мы с Димкой-другом его гоняли регулярно, а Дима-враг отвечал «взаимностью» уже нам. Постоянно дрались. Да, он был физически крупнее, сильнее, но я уже тогда понимал, что не хочу жить по правилам какого-то чужого пацана. Я сопротивлялся. Отстаивал свои детские позиции, не поддавался, хотя это было проще всего сделать – возможно, тогда Дима-враг утратил бы к нам интерес и угомонился. Наверное, мы с другом, мелкие и отчаянные, дико его раздражали, особенно когда из вредности таскали ягодки с Диминой грядки, которую он разбил буквально напротив своего подъезда и что-то даже выращивал. Хобби у парня такое было. Странно, как мирное и умиротворяющее в целом садоводство, особенно когда ты любишь ковыряться с землей, может сочетаться с таким зловредным характером?
Выстроить взаимоотношения с Димой-врагом так и не получилось, но детские ссоры в какой-то момент все же сошли на нет. Мы их переросли. А я, получив опыт коммуникаций и интуитивно понимая, что ко всем людям можно и нужно искать подход, пытался выстраивать взаимоотношения более осознанно. Очень хотел попасть в компании двоюродных братьев и сестры. Чтобы мальчишки – а они все были старше на несколько лет – приняли в свой круг, пришлось научиться играть в карты. В те годы почему-то все играли в карты, и этот навык делал тебя равным остальным ребятам. А когда мальчишеская ватага мчалась на речку учиться плавать, я тоже бежал с ними. Это ощущение общности – всех бросают в воду с лодки и каждый гребет изо всех сил – объединяло не хуже кровного родства. Сегодня я могу сказать, что это была сонастройка с командой, адаптация, но тогда было просто счастливое бесшабашное детство, когда очень хотелось найти своих.
С девчонками, кстати, было проще. Видимо, у них уже в возрасте девяти-десяти лет проявляется материнский инстинкт, и им очень нужно о ком-то заботиться. Объектом с радостью становился я – был их маленьким царевичем, которого укладывали спать на вытащенные из дома перины и подушки, кормили, всячески холили и лелеяли. Это было и смешно, и трогательно – я чувствовал себя просто на седьмом небе от счастья, потому что внимание мне уделяли такие серьезные и взрослые девчонки.



