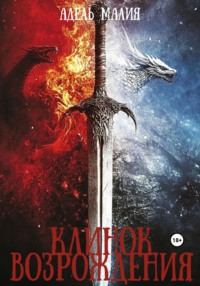Полная версия
Дикая Охота: Легенда о Всадниках
Я вышла во двор, и мир встретил меня ослепительным великолепием. Ночной снег укутал все в идеальную, пушистую белую пелену, скрадывая углы и смягчая очертания. Воздух был хрустально чистым и таким острым, что каждый вдох обжигал легкие, а выдох превращался в густое облако. И посреди этого замерзшего великолепия, как островок целеустремленной жизни, стояли они.
Каэлион, покрытый инеем, поправлял стремя у своего могучего вороного жеребца, и каждое его движение – от проверки подпруги до затягивания ремня на сумке – было лишено суеты и наполнено глубинным смыслом. Рядом стояла Юника, уже оседланная, и при виде меня насторожила уши, тихо фыркнув. К седлам были приторочены дорожные сумки из потертой кожи, свертки в холщовой ткани, а у Каэлиона за спиной – туго свернутый плащ-палатка и чехол с длинным луком. Все было готово и ждало только меня.
Я сделала первый шаг, и хруст снега под сапогом прозвучал в тишине подобно выстрелу. Он обернулся. Его лицо, обрамленное меховой опушкой капюшона, в предрассветном свете казалось резче и бледнее. Глаза, цвета зимнего неба перед бурей, нашли мои и остановились. В них не было ни утренней приветливости, ни обнадеживающей улыбки. Была лишь та самая сосредоточенность, которую я научилась читать – концентрация полководца перед битвой, смешанная с глубокой усталостью. Он не сказал ни слова. Просто протянул руку в мою сторону – жест, в котором читалось и «иди», и «я здесь», и «пора».
И в этот самый миг, будто в ответ на этот жест, с тяжелым, низким скрипом распахнулась дубовая дверь Особняка.
Звук, такой знакомый и обыденный, сейчас прозвучал как удар грома, разрывающий хрустальную тишину утра. Что-то внутри меня оборвалось и упало в ледяную пустоту.
Первым, уверенно ступая знакомой тростью, вышел Люциан. Он был полностью одет, его серебристые волосы аккуратно убраны, а невидящее лицо было повернуто точно в нашу сторону. За ним, заполнив собою весь дверной проем, возник Джаэль. Его обычно невозмутимое лицо было серьезно, а в глубоко посаженных глазах светилось что-то невыносимо нежное и печальное. Рен замер на пороге, закутавшись в темный, строгий халат. В его тонких, всегда точных пальцах был зажат небольшой кожаный мешочек с завязками – я безошибочно узнала в нем его дорожную аптечку. И даже Зориэн. Он не вышел на снег, остался в глубине проема, прислонившись к косяку. Руки были скрещены на груди, а взгляд упрямо направлен мимо нас, в заснеженный сад, но сам факт его присутствия в этот прощальный час говорил больше, чем могла бы сказать любая речь.
Они молчали. Эта тишина была полна невысказанных слов, которые висели в морозном воздухе, смешиваясь с паром от дыхания. Она давила на уши, щемила в горле и обволакивала меня теплом, которое я вот-вот должна была покинуть.
И тогда контроль лопнул. Разум отступил, уступив место слепому чувству. Я рванулась вперед, проваливаясь в глубокий снег, спотыкаясь, падая на колени и снова поднимаясь, не чувствуя холода, не видя ничего, кроме их фигур у двери. Слезы, горячие и горькие, хлынули из глаз еще до того, как я преодолела половину расстояния.
Я врезалась в Джаэля, потому что его широкая, могучая фигура казалась единственной незыблемой скалой в этом рушащемся мире. Я обхватила его так, словно хотела укрыться от предстоящей разлуки, и уткнулась лицом в грубую ткань его пальто, впитывая знакомый, успокаивающий запах конюшни, дерева и честной силы.
– Девочка, тише, тише.
– Я не могу уехать, – захлебнулась я, и слова потонули в рыданиях, которые сотрясали все мое тело. – Я не хочу, Джаэль. Я боюсь того, что впереди. И боюсь не вернуться к вам.
– Страх – это знак, что дело стоит того, – сказал он мягко, но твердо. – Ты боишься, потому что тебе есть что терять. Это хорошо. Это дает силы бороться, а ты будешь бороться. Мы в тебя верим и Капитан в тебя верит.
Мне пришлось почти оторвать себя от него, оставив на его пальто мокрое пятно от слез. Я повернулась и почти упала в уже раскрытые объятия Люциана. Он встретил меня, его руки нашли мое лицо с потрясающей, незрячей точностью, а большие пальцы нежно смахнули ледяные капли с моих ресниц.
– Селеста, слушай меня, – прошептал он. – Ты увозишь с собой не просто воспоминания. Ты увозишь тишину наших коридоров, которую ты научилась слушать. Тепло от этого порога, которое согревало тебя, когда ты возвращалась с прогулки. Отзвуки наших голосов на кухне, наши споры и наш смех. Ты увозишь суть этого места. И пока ты помнишь ее – ты всегда сможешь найти дорогу обратно. Не к стенам, а к нам. Мы будем хранить твое место у очага. Оно останется пустым ровно до того момента, когда мы услышим твои шаги в коридоре.
Я могла только кивать, бессвязно бормоча что-то, прижимаясь к прохладному шелку его жилета. Он наклонился и поцеловал меня в лоб – сухой, нежный поцелуй-печать, благословение и оберег в одном жесте.
Затем я подошла к Рену. Он выдержал паузу, его аналитический взгляд скользнул по моему лицу, отмечая бледность, следы слез и учащенное дыхание. Затем, с едва заметным вздохом, он позволил мне обнять его.
– Излишняя эмоциональная нагрузка перед испытанием может негативно сказаться на когнитивных функциях и скорости реакции, – произнес он своим четким тоном, но его руки легли мне на спину – легкое, почти призрачное прикосновение. – Однако, отрицать значение социальных связей для психологической устойчивости было бы ненаучно. Прими это как фактор поддержки.
Он вложил мне в руки аптечный мешочек.
– Стандартный набор: адаптогены для выносливости, седативное на случай панических атак, антисептические и кровоостанавливающие средства. Схема приема внутри. Не нарушай. И… возвращайся. Без завершающей фазы мое наблюдение за адаптацией аномального организма к энергии Гримфаляпотеряет всякую научную ценность. Ты – мой самый важный незавершенный труд.
И тогда, набравшись смелости, я посмотрела на Зориэна. Он все еще стоял в тени, его профиль был напряжен, челюсть сжата. В груди что-то болезненно сжалось – колючий комок обиды, жалости и странной благодарности за его упрямую честность. Я сделала шаг к порогу.
– Зориэн…
Он резко, почти сердито, повернул голову. Его темные глаза, обычно пустые или полные неприязни, горели сдержанным внутренним огнем.
– Ну? – бросил он отрывисто.
– Я хочу попрощаться.
Он смотрел на меня, и я видела, как в его взгляде идет борьба – привычная неприязнь с чем-то новым, трудным и неуместным. Потом он резким движением сдернул с собственного мизинца простой железный перстень с неаккуратной гравировкой.
– Держи, – он почти швырнул его мне в ладонь. Перстень был теплым от его тела. – Чтоб не сглазили там, куда вы едете. Или на удачу. Не знаю. Чтобы… чтобы помнила, откуда ноги растут. И не зазнавалась. – Он отвернулся, уставившись в снег. – И не теряй. Он… старый.
Это было больше, чем я могла ожидать. Больше, чем он, вероятно, хотел дать. Я сжала перстень в кулаке, чувствуя, как его остаточное тепло жгло мне ладонь, смешиваясь с холодом металла.
– Спасибо, – прошептала я искренне. – Я сохраню его. И… я постараюсь не подвести.
В этот момент знакомая рука легла мне на плечо, разворачивая меня. Каэлион.
– Селеста, пора.
Он был прав. Я увидела, как Джаэль отвернулся, проводя широкой ладонью по лицу, скрывая дрожь подбородка. Как Люциан глубоко, с заметным усилием вздохнул, сжимая набалдашник своей трости. Как Рен поспешно, с непривычной нервозностью поправил идеально лежащий воротник халата.
Я обвела их взглядом в последний раз, стараясь запечатлеть каждую деталь: суровую нежность Джаэля, мудрую печаль Люциана, сдержанную заботу Рена, угрюмую, но искреннюю уязвимость Зориэна. Мой дом. Моя причудливая, раненная, бесконечно дорогая семья.
– Я обязательно вернусь, – сказала я громко и четко.
Каэлион мягко, но с несгибаемой решимостью развернул меня и повел к лошадям. Я шла, почти не чувствуя под собой ног, цепляясь за его руку как единственную связь с реальностью. Он помог мне взобраться в седло Юники – его руки обхватили мою талию, подняли с такой легкостью, что у меня перехватило дыхание, и бережно усадили. На мгновение его лицо оказалось совсем рядом, и в глубине его серых глаз я увидела отражение всей моей собственной боли, умноженной и отточенной веками его собственного одиночества.
– Просто дыши, – прошептал он так, чтобы слышала только я. – Просто держись за седло. Все остальное – моя забота.
Он легко вскочил в свое седло. Близнецы, уже сидевшие на своих конях по флангам от меня, были непривычно молчаливы и сосредоточены. Каэлионокинул взглядом наш маленький походный порядок, а затем бросил последний взгляд на порог.
– Особняк и все, что в нем есть, – на вас, – сказал он громко и ясно.
Затем он развернул своего коня и тронулся с места ровным шагом. Юника, повинуясь незримому сигналу, двинулась следом. Я не обернулась. Я зажмурилась, вцепившись пальцами в ее гриву, сжимая в левой руке перстень Зориэна так, что его гравировка отпечаталась на коже. Я слышала, как снег хрустит под копытами, как кто-то на пороге – Джаэль, наверное – сдержанно, глухо откашлялся. Потом эти звуки растворились в белой тишине, и нас медленно поглотил молочно-белый туман, поднимающийся от земли навстречу бледному дню.
***
Мы ехали часами. Сначала еще по более-менее угадываемой дороге, потом просто по насту, который прокладывала мощная грудь коня Каэлиона. Он вел нас без колебаний, будто видел сквозь пелену тумана незримую тропу, известную только ему. Мир сузился до небольшого круга: пятно снега перед мордой Юники, темная спина Каэлиона впереди, мелькающие в белизне силуэты близнецов по бокам и сзади. Туман обволакивал и делал звуки приглушенными, а время – растянутым и липким.
Первое оцепенение постепенно отступило, уступив место тоскливой боли, которая сидела глубоко в груди. Каждый шаг, каждый скрип полоза (близнецы тащили за собой небольшие грузовые сани) удалял меня от тепла камина в холле, от запаха свежеиспеченного хлеба, доносившегося с кухни, от звука споров и смеха. Я думала о том, как Джаэль поправлял мою стойку, о замечаниях Рена, о тихих, но таких глубоких словах Люциана. Даже о колючем, неловком жесте Зориэна. Грудь сжималась так сильно, что дышать приходилось короткими, прерывистыми глотками ледяного воздуха.
– Знаешь, с такого расстояния и в таком антураже ты очень напоминаешь призрака из местных легенд, – тихий, но отчетливый голос справа заставил меня вздрогнуть и вынырнуть из пучины мыслей. Разиэль поравнялся со мной, его лошадь аккуратно ступала в унисон с Юникой. – Бледная, молчаливая… Не хватает только зловещего сияния и стонов. Хочешь, научу стонать с трагизмом?
– Она и так все стоны вчерашние истратила, – отозвался слева Сариэль, материализовавшись из тумана, словно его там и ждал. – Теперь ей нужна не трагедия, а эпос. Эпос о девушке, которая сбежала из уютной неволи, чтобы бросить вызов самой Королеве Туманов. Согласись, звучит.
Я медленно повернула голову, сначала к одному, потом к другому. Без своих клоунских ухмылок, с лицами, покрасневшими от мороза и серьезными, они выглядели… взрослыми. Настоящими воинами, а не просто шутами.
– Мне просто… кажется, я оставила там часть себя, – выдохнула я. – Как будто оторвала кусок души и приклеила его к дверному косяку в холле.
– Понимаем, – кивнул Разиэль, и в его тоне не было ни капли привычного балагана. – Помнишь нашу первую самостоятельную вылазку? Нас отправили вдвоем карту пограничных туманов уточнять. Казалось, без спины капитана за спиной и без ворчания Рена в ушах мы – просто два дурака, заблудившихся в белой пустоте. Но знаешь, что мы поняли тогда?
– Что наша связь – как эта самая тропа в тумане, – подхватил Сариэль, жестом указывая вперед, на невидимую дорогу. – Ее не всегда видно, но она есть. И она связывает не только нас двоих. Она связывает весь отряд. Джаэль, Рен, Люциан, даже угрюмый сапожник у порога… Они не остались там, в стенах. Они здесь. – Он легонько ткнул себя в грудь, затем сделал жест в мою сторону. – В умении стоять, которое дал Джаэль. В умении слушать свое тело от Рена. В умении видеть не глазами от Люциана. Мы все носим друг в друге кусочки друг друга. Поэтому ты не одна. Ты везешь с собой целый отряд, просто в более компактной форме.
Их слова, лишенные пафоса, падали на промерзшую почву моей души как первый весенний дождь. Я сделала глубокий вдох, и воздух, хотя и оставался ледяным, больше не казался враждебным.
– А вы… вам не страшно? – спросила я, глядя на них по очереди. – Ехать со мной навстречу чему-то абсолютно неизвестному? Рисковать всем… ради аномалии?
Разиэль усмехнулся, но в его усмешке была грусть.
– Милая, мы, Всадники, живем в объятиях неизвестности. Каждая Охота – прыжок в пропасть. Страх – наш старый компаньон, мы с ним на коротком расстоянии. А что до риска… – он переглянулся с братом, и между ними пробежало что-то неуловимое, глубоко понятное только им двоим, – …иногда самый большой риск – это ничего не менять. Сидеть и ждать, пока мир вокруг застынет окончательно. А с тобой… с тобой хотя бы не скучно.
Я не удержалась и слабо улыбнулась. Это было похоже на первую тонкую трещину в ледяном панцире, сковавшем мое сердце с самого утра.
– Спасибо, – прошептала я искренне. – Что вы здесь. Что не даете мне окончательно раскиснуть.
– Раскисать мы тебе не дадим, это святое, – парировал Сариэль. – Кто еще будет так красочно описывать в будущих балладах, как мы, два героя, спасали хрупкую деву от… э… от скуки и переохлаждения в пути?
Впереди раздался негромкий, но властный щелчок языком. Каэлион, не оборачиваясь, поднял руку и сделал отточенный жест: «К позициям. Тишина в строю».
Близнецы мгновенно смолкли. Они кивнули мне и чуть отпустили поводья, отставая, чтобы занять свои места прикрытия сзади. Однако их присутствие больше не было просто физическим. Оно превратилось в теплое ощущение защищенности у меня за спиной и в тихую уверенность, что я не одна в этой белой пустыне.
Мы въехали в лес, когда день, едва успев разгореться, уже начал клониться к ранним зимним сумеркам. Высокие ели, закутанные в тяжелые снежные шубы, встали по сторонам. Туман здесь висел не пеленой, а сизыми лентами, обвивающими черные стволы. Звуки притихли, а мир сжался до узкой тропы, которую безошибочно находили копыта коня Каэлиона. Свет быстро таял, окрашивая снег под ногами в глубокий, холодный синий, а просветы между верхушками елей – в лиловые и багровые тона заката.
Он ехал впереди, его спина была прямая и, казалось, абсолютно непроницаемая для усталости или сомнений. Но я замечала, как его голова время от времени чуть поворачивается, улавливая малейший звук, как его взгляд, быстрый и острый, скользит по сторонам, сканируя чащу. Его внимание было осязаемым полем, и в самом его центре, я знала, была я.
Мы двигались так еще долго, пока последние отблески света не угасли, и лес не погрузился в темноту, нарушаемую лишь нашим продвижением и постепенно проступающими сквозь редкие облака звездами. И вот, когда уже казалось, что мы будем ехать так всю ночь, Каэлион снова поднял руку, сжав ее в кулак – сигнал к остановке.
Он спешился, его сапоги с глухим стуком врезались в снежную корку. Несколько мгновений он стоял неподвижно, вслушиваясь и всматриваясь в темноту, затем обошел небольшую поляну, защищенную с одной стороны невысоким скальным выступом, а с других – плотной стеной молодого ельника.
– Здесь устроим ночлег, – сказал он просто.
Близнецы моментально соскочили с лошадей, их движения стали быстрыми и слаженными: расседлать коней, сгрести снег для кострища, развернуть поклажу. Я медленно, с трудом разгибая затекшие и закоченевшие конечности, сползла с Юники. Ноги подкосились, и я едва не рухнула в снег, но вовремя ухватилась за седло.
Сильная рука тут же подхватила меня под локоть, не дав упасть. Каэлионмолча отвел меня в сторону, к скальному выступу, и мягко, но настойчиво усадил на разостланный им же плащ.
– Сиди пока здесь, – приказал он тихо. – Сначала они разведут огонь, а потом ты сможешь погреться.
Я послушно прислонилась к холодному камню, завернулась в плащ и наблюдала, как в центре поляны, под умелыми руками близнецов, рождается и начинает разгораться жизнь – маленькое, но яростное пламя костра, отбрасывающее на снег и на их сосредоточенные лица пляшущие тени.
Первая ночь в пути. Первая ночь в огромном мире, которая уже не казалась такой одинокой и враждебной. Потому что здесь, в этом круге огненного света, был он. И были они. И это пока что было всем, что мне было нужно.
Глава 30: Шпиль
Пять суток пути спрессовались в одно долгое воспоминание, окрашенное в оттенки белого, серого и глубокой, костной усталости. Они слились в череду бесконечных, заснеженных долин, где ветер выл одиноким голосом, и темных хвойных лесов, где ветви, обремененные снегом, скрипели над головой, словно старые кости. Пять ночей у костра, пламя которого боролось с влажным мраком, отбрасывая на наши лица не тепло, а лишь трепетание теней. Мы спали, завернувшись в плащи на холодной земле, под вой волков где-то вдалеке – или то был ветер в расщелинах? Теперь я уже не могла отличить.
Мое тело, уже привыкшее к седлу за недели тренировок, теперь ныло иной, глухой болью – болью от постоянного напряжения, от холода, въевшегося в самые суставы, от немого страха, который был моим незримым спутником. Но под этой физической усталостью зрело и крепло иное чувство. Оно напоминало то ощущение, когда стоишь на краю высокой скалы и знаешь, что нужно прыгнуть, и от этого знания кружится голова, а ноги становятся ватными.
На шестой день туман начал меняться. В воздухе появился новый запах, заместивший чистую свежесть пустоши: запах тысяч очагов, чадящих сырыми дровами, запах влажного камня мостовых, запах людского пота и тленой кожи. И звуки. Сперва едва уловимый, низкий гул, вибрирующий где-то под землей. Потом – отдельные эхо: отдаленный лязг железа, приглушенный говор, скрип колес. Мы приближались не просто к городу. Мы приближались к живому, дышащему организму Гримфаля, и дыхание его было тяжелым и холодным.
А потом молочная пелена перед нами начала рожать призраков. Сначала это были просто размытые тени, неясные силуэты, плавающие в белизне. Но с каждым шагом наших лошадей они приобретали твердость, прочность и детали. Столица, носившая гордое имя Шпиль, не открывалась нам в величии на горизонте. Она нехотя проступала из тумана, обволакивая нас со всех сторон.
Это был город, высеченный не из мечты или надежды, а из отчаяния и несокрушимой воли. Он был целиком из камня – не теплого, песочного или белого, а холодного, свинцово-серого камня, впитавшего в себя вечную сырость и, казалось, сам свет. Дома вырастали друг из друга, срастались боками, образовывая единый, зубчатый каменный массив. Они тянулись вверх, узкие и высокие, словно молящиеся, или, наоборот, – как клыки, вонзенные в брюхо низкого неба. Крыши были острыми, покрытыми не черепицей, а плитами темного, почти черного цвета, которые блестели мокрым блеском. Окна – редкие и узкие, похожие на бойницы. И за многими из них, даже в этот предвечерний час, светился тусклый, желтоватый огонек – не уютное пламя свечи, а ровное, безжизненное свечение магических камней или густого, тяжелого масла. Резные деревянные балки, почерневшие от времени и вечной влаги, перекрещивались на фасадах, создавая ощущение пустого скелета, опутаннного черными венами. Ни позолоты, ни ярких красок, ни пестрых вывесок. Только бесконечные вариации серого, черного и тускло-коричневого. Тишина здесь была иной – не природной, а зловещей, нарушаемой лишь скрипом вывески на ржавом кронштейне или далеким стуком молота из-за глухой стены.
И по этим улочкам двигались люди. Это зрелище поразило меня больше, чем сама архитектура. Они выглядели… нормально. Обычно. Мужчины в простых, практичных туниках и плащах из грубой шерсти, женщины в темных, длинных платьях, волосы их были убраны просто, без изысков. Они несли корзины, вели за поводья мохнатых, низкорослых яков, нагруженных тюками, разговаривали тихими голосами. И ни один взгляд не остановился на нас с открытым ужасом или ненавистью. Взгляды скользили по нашим черным плащам, по мощным, уставшим коням, по знакомому, суровому профилю Каэлиона, и быстро, почти машинально, отводились в сторону. Это была не враждебность. Это была, скорее, осторожность, ставшая второй натурой. Они жили здесь, в этой каменной утробе, и Всадники были для них такой же частью пейзажа, как вечный туман и давящие каменные своды. Частью неумолимых правил этого мира, с которыми не спорят, а просто существуют бок о бок.
«Реборны», – пронеслось у меня в голове, и по спине пробежал холодный озноб. Вот они. Те, чья память была стерта, чья прежняя жизнь растворилась в боли трансформации. Они строили здесь свою новую реальность – серую, тихую, лишенную ярких красок прошлого. И от этого зрелища стало нестерпимо жаль их и… страшно за себя. Станет ли мой мир таким же, если я ошибусь?
Мы проехали через огромную рыночную площадь. Здесь воздух сгустился от запахов: едкий дым, жареное на открытом огне мясо с пряностями, шерсть, влажная земля и подгнившие овощи. Торговля шла вполголоса, без криков, без зазывных возгласов. Люди стояли у своих прилавков, изредка перебрасываясь короткими фразами. И снова – наш проход не вызвал ажиотажа. Лишь быстрый, оценивающий взгляд, полный не любопытства, а расчета: «Представляют ли они опасность? Нужно ли отойти?». Это было унизительнее любой вражды.
Чем глубже мы погружались в город, тем выше и неприступнее становились здания. Теперь это были уже не дома, а крепостные башни, соединенные арочными переходами на головокружительной высоте. Воздух стал еще холоднее, он словно впитывал в себя ледяное дыхание камня, не видевшего солнца. Туман цеплялся за острые шпили, стекал по стенам серыми ручьями.
И тогда, в конце длинной улицы, он показался. Сначала – просто как нарастающая темнота, как черная стена, перекрывающая все небо. Потом детали: башни, толстые у основания, словно вросшие в саму скалу, сужающиеся кверху и венчающиеся шпилями из того же черного, матового камня. Замок Шпиль. Он не стремился к красоте или изяществу. Он воплощал мощь, тяжесть и неприступность. Он казался естественным продолжением мрачного сердца Гримфаля. Окна, узкие и высокие, на огромной высоте напоминали слепые глазницы спящего исполина. Лишь в некоторых, там, где, должно быть, были покои или залы, теплился тот же тусклый, желтый свет – одинокий и недружелюбный.
Но между нами и этой каменной глыбой зияла пустота. Огромное пространство, на другом конце которого темнела узкая, черная лента замерзшей реки. А через нее – единственный путь. Мост. Узкая, каменная лента, лишенная перил. Он терялся в тумане, нависшем над водой, и его дальний конец тонул в белизне, так что невозможно было понять, где он заканчивается и начинается ли стена замка. Это был мост в никуда, и одно его созерцание заставляло сердце бешено колотиться, а ладони – становиться липкими от холодного пота внутри перчаток.
Мы остановились у его начала, где из камня мостовой росли две массивные, покрытые инеем тумбы. И здесь стояла стража. Доспехи их были из темного, лакированного металла, отливающего синевой, лица полностью скрыты под глухими шлемами с узкими прорезями. Они не двигались, не переминались с ноги на ногу. Казалось, они вросли в камень. В руках каждый держал алебарду с блестящим лезвием.
Каэлион спрыгнул с коня. Звук его сапог, ударивших о камень, прозвучал невероятно громко, эхом отразившись от каменных громад вокруг. Он сделал неторопливый шаг вперед, его плащ тяжело опал.
– Капитан Каэлион, отряд №11. С аномалией по имени Селеста для аудиенции у Её Величества.
Один из стражников, чуть выше других и с чуть более замысловатым узором на наплечниках, медленно, с едва слышным скрипом лат, повернул голову в нашу сторону. Безжизненный взгляд из узкой прорези скользнул по Каэлиону, задержался на мне – я почувствовала, как под этим взглядом леденеет кровь, – затем переместился на близнецов. Казалось, он не видел живых существ, а оценивал объекты. Затем он сделал едва заметное, отточенное движение рукой в латной перчатке.
С глухим звуком тысячелетнего механизма ворота начали расходиться. Каэлион, не оборачиваясь и не подавая нам знака, взял своего коня под уздцы и твердым шагом повел его на мост. Он исчез в тумане через три шага. Мое сердце упало, а потом заколотилось с бешеной силой. Я вдохнула полной грудью ледяной воздух, почувствовала, как Юника подо мной нервно перебирает ногами, и пришпорила ее, заставляя двинуться вперед. Близнецы, без единого слова, тронулись следом, замыкая нашу маленькую процессию.
Переход через мост стал самым долгим и душераздирающим испытанием за весь путь. Мир сузился до скользкого камня под копытами и белой, клубящейся стены по бокам. Краев не было видно. Шагая, я боялась сделать лишнее движение в сторону, представив, как сорвусь в бездонную пустоту, из которой доносился протяжный гул – то ли ветер в расщелине, то ли далекий, ледяной плеск невидимой воды далеко внизу. Туман обволакивал, пробирался под одежду, застилал глаза. Я видела только смутный силуэт Каэлиона впереди, расплывчатое пятно его плаща, и слышала стук копыт по камню, который, казалось, не находит отзвука, а просто проваливается в ничто. Время потеряло смысл. Мы могли идти минуту или час. Это было путешествие через чистилище, где не было ни прошлого, ни будущего, только настоящее, наполненное слепым ужасом и необходимостью доверять тому, кто вел нас вперед.