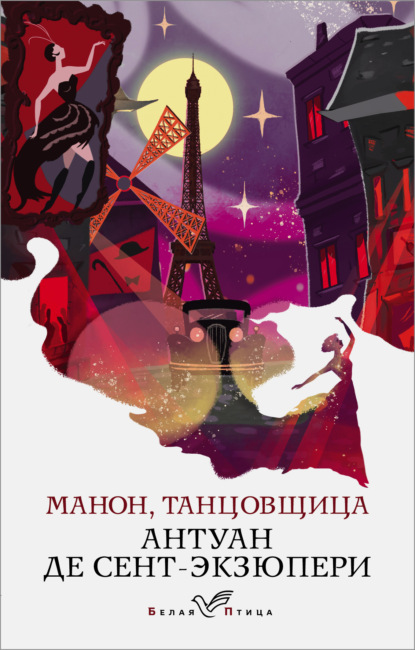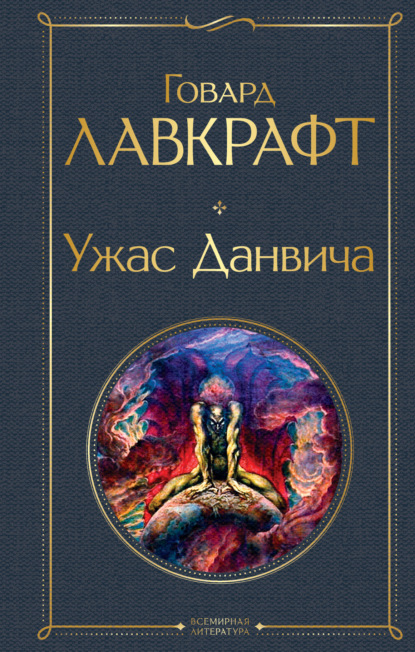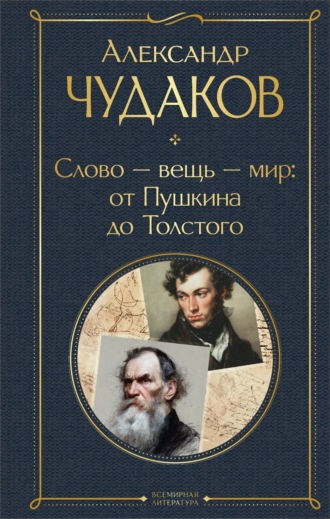
Полная версия
Слово – вещь – мир: от Пушкина до Толстого
«Вскоре узнали о быстром приближении русских. Народ стал говорить о сдаче. Сераскир и войско думали защищаться. Произошел мятеж. Несколько франков были убиты озлобленной чернию. В лагерь наш (26-го утром) явились депутаты от народа и сераскира; день прошел в переговорах; в пять часов вечера депутаты отправились в Арзрум…» («Путешествие в Арзрум»).
«Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты; но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступления французов. Память его казалась священною для Маши, по крайней мере, она берегла все, что могло его напомнить: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее» («Метель»).
Всякая из фраз-сообщений первого примера в равной степени важна в аспекте грандиозных или достаточно крупных событий; каждый мотив из второго примера столь же одинаково существен в сфере частной жизни – в отдельности он равно способен вызвать толки соседей героини, дивившихся «ее постоянству». Смена масштаба происходит на границах синтаксических целых (абзацев). Так, приведенный отрывок из «Метели» имеет следующее продолжение: «Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни…» Переход достаточно резок: от дел семейственных к событиям общенародным. Но после него, в новом синтаксическом целом, другой, крупный масштаб выдерживается столь же строго.
Для сравнения приведем пример из Чехова: «В Обручанове все постарели: Козов уже умер, у Родиона в избе детей стало еще больше, у Володьки выросла длинная рыжая борода. Живут по-прежнему бедно» («Новая дача»). Фраза про бороду выбивается из общего масштаба. Для событийной части пушкинского повествования включение такого «события» невозможно. Привлечение деталей другого событийного ряда есть факт стилистически отмеченный – черта «нелитературности». Письмо Орины Бузыревой молодому Дубровскому, повествующее о важных событиях («о здоровье папенькином», «животе и смерти», о том, что земский суд отдает его крестьян «под начал Кирилу Петровичу»), кончается именно такими деталями: «У нас дожди идут вот ужо друга неделя и пастух Родя помер около Миколина дня». Такое смещение у Пушкина может быть использовано только в юмористических целях.
Явление равномасштабности хотелось бы поставить в связь с ровностью эмоциональной поверхности пушкинского повествования и редкостью на ней всплесков и сломов авторского чувства.
6Сущностно-отдельностный принцип предметно-событийного построения вполне поддержан на речевом уровне – характером синтаксических связей, как меж-, так и внутрифразовых. Это прежде всего паратаксичность в широком смысле: преобладание сочинительных связей над подчинительными, а бессоюзных – над союзными (недаром во всех руководствах по синтаксису и пунктуации – от Я. Грота до А. Шапиро – в качестве образчиков бессоюзных предложений так часто фигурируют примеры из прозы Пушкина), широкая распространенность присоединительных связей.
Но главным явлением в области синтаксического ритма пушкинской прозы, точнее соотношения в ней ритма и значения [25], представляется феномен, который можно назвать повествовательной равноценностью.
В связном повествовании в пределах одного синтаксического целого повторяющиеся структурно однотипные [26] конструкции повествовательно равноценны. Это значит, что единообразная синтаксическая расчлененность и более или менее равная протяженность фраз заставляют ждать одинакового же логического объема понятий или – шире – равноважности их содержания. От того, оправдывается или нет это ожидание, в прозе зависит многое.

Ритмико-синтаксическая одинаковость налицо. Но так как художественные предметы и событийные мотивы в пределах синтаксического целого в прозе Пушкина одномасштабны, то ожидание содержательного единообразия не обманывается. Синтаксическому ритму соответствует семантический [27].
Издавна отмечалось, что «проза Пушкина производит особое впечатление, не похожее на впечатление от прозы прозаиков» [28]. Причину этого впечатления искали в родстве со стихами, понимаемом как количественное упорядочение слогов и ударений. Родство это глубже – оно восходит к главному принципу стиха, принципу сбывшегося ожидания. Но совпадение ожидаемого с реальным происходит в другой сфере. Так образуется прозаический ритм.
Каждая фраза пушкинской прозы охватывает равный с соседней по масштабу отрезок времени, сегмент пространства или равнозначащее событие. Нет перебива темпа, замедлений и ускорений – нет движения то шагом, то бегом. Шаг пушкинской прозы единообразен, как шаг винта.
Равномасштабность возможна только в отдельностном художественном мире: в прозе тесно взаимосвязанных деталей содержательный объем их различен – например, у подчиненно-конкретизирующей детали он меньше.
Эта проза выдерживает колоссальное смысловое и эмоциональное напряжение без существенного изменения ритма – подобно здоровому сердцу, которое при резко усилившейся нагрузке продолжает работать в том же равномерном темпе, но с каждым биеньем проталкивает лишь большее количество крови.
Не исчерпывая понятия гармоничности пушкинской прозы, повествовательная равноценность является, очевидно, одним из главнейших факторов, создающих впечатление ее «однообразной красивости», ее устойчивого равновесия, не колеблемого ничем. Ритм прежде всего является началом организующим; повествовательная равноценность препятствует разбрасыванию «отдельностных» художественных предметов и мотивов по плоскости повествования, она видимо и отчетливо объединяет и упорядочивает их.
На уровне слова к повествовательной равноценности приближается явление семантической равнораспределенности. В пушкинском прозаическом повествовании нет ударенных, ключевых слов, фокусирующих в себе семантико-идеологические интенции текста – типа гоголевского «кулака», гончаровской «обломовщины», щедринского «чумазого». Редкие выделенные слова у Пушкина цитатны и вполне локальны: «…побоялся я сделаться пьяницею с горя, т. е. самым горьким пьяницею… Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех горьких…» («Выстрел»); «…и, обратись к Савельичу, который был и денег, и белья, и дел моих рачитель, приказал…» («Капитанская дочка»). Полярным к пушкинскому в этом отношении является стиль Достоевского с его «корчащимся» (Бахтин) словом [29]. И чрезвычайно показательно, каким образом пушкинское уравновешенное, ненапряженное слово разряжает, по тонкому замечанию С. Г. Бочарова, наэлектризованную атмосферу этого стиля. «Среди прочих подробностей есть такое слово, как „спился”. Герой Достоевского принимает его от Пушкина <…>. В контексте „пушкинского” впечатления это слово у Девушкина произносится так же без напряжения, просто, как оно звучит у Пушкина» [30]. Чтобы стать «пушкинским», слово не должно быть отмеченным, но должно стать равным среди семантически равных.
7Ю. Тынянов как-то заметил, что «самое веское слово по отношению к пушкинской прозе было сказано Львом Толстым» [31]. Речь идет о знаменитом высказывании об «иерархии» «предметов поэзии», которая у Пушкина «доведена до совершенства» [32]. Но самая строгая иерархичность будет именно в равномасштабном повествовании: в строй равных деталей не вторгнется деталь иного калибра – ей уготовано место в другой части текста, среди подобных ей. Представляется, что и еще одна существеннейшая черта пушкинской прозы – ее динамизм – есть прямое производное от недетализованно-сущностного и равномасштабного расположения художественных предметов и событий. Предмет объявлен, но в следующей фразе нет его детализации, а есть переход к другому и, значит, нет задержки; рассказ, не останавливаясь, катится дальше. И конечно, повествование, состоящее из смеси равномасштабных деталей, переходящее от крупной к мелкой, потом снова к крупной и так далее, движется медленнее того, которое, как пушкинское, каждой деталью, мотивом постоянно покрывает равное пространство и время.
Твердость, жесткость, «голость» (Л. Толстой) прозы Пушкина, многократно отмечавшиеся, тоже хотелось бы поставить в связь с отдельностностью и сущностностью сегментов его изображенного мира. От предмета к предмету, от мотива к мотиву нет плавных амортизирующих переходов, которые создавались бы более мелкими событиями и подробностями. Переходы в прозе Пушкина резки и отрывисты, осуществляются сразу.
Думается, что с названными основными принципами связана и признанная объективность пушкинской повествовательной манеры. Нетвердые предметы сентименталистов и романтиков расплываются в растворе авторского чувства, делая его еще насыщеннее; жестко оконтуренные и отдельно-самостоятельные предметы авторскую интенцию, напротив, ослабляют. Проза существенных и равномасштабных мотивов не вместит деталь, идущую от субъективности и своеволия повествователя.
Проза Пушкина стилистически неоднородна. «Повести Белкина» и «Арап Петра Великого», с одной стороны, и остальные повести, с другой, значительно отличаются между собою словарем, фразеологией и синтаксисом; «Дубровский» отличается от «Капитанской дочки», «Пиковая дама» – от всего остального и т. д. [33] Однако ж при всем том сущностно-отдельностный тип художественного ви`дения, реализуясь в равномасштабности и принципе повествовательной равноценности, обнаруживается во всех прозаических пушкинских вещах; данные принципы надстраиваются над частными различиями. Это дает возможность считать их для пушкинской прозы универсальными.
1980
Вещь во вселенной Гоголя
1Изображенная в литературе вещь, природный или рукотворный предмет – феномен, сопоставимый с изображенным событием или человеком. Но если последние никогда не считались точным слепком с явлений действительных, то с вещью художественного произведения, с художественным предметом было иначе. В эпоху позитивизма и постпозитивизма (еще более длительную) под влиянием положительных наук (из гуманитарных к ним можно отнести археологию и историю материальной культуры) утвердилось отношение к художественному предмету как к прямому представителю прошлых и настоящих культур. В эстетике и теории литературы он стал пониматься как познавательный, несущий вещную информацию об эпохе, а применительно к конкретному произведению – об обстановке, о ситуации, фоне действия и т. п. Художественный предмет предстает как явление чрезвычайно близкое и едва ли не тождественное предмету эмпирическому; отсюда в критике и литературоведении требование точности реалий как едва ли не главное.
Но художественный предмет, как и любой другой элемент мира писателя, прежде всего носитель качествования художественной системы, воплощающий в себе ее главные свойства, а уж затем выполняющий все другие задачи, в том числе и реальномировоспроизводящую.
Художественный предмет имеет непрямое отношение к вещам запредельной ему действительности. Он феномен «своего» мира, того, в который он помещен созерцательной силою художника. Вещный мир литературы – коррелят реального, но не двойник его. Разумеется, художник использует эмпирические предметы – ничто другое ему не преднесено. Но они – лишь своеобразный первичный продукт, исходное сырье. «Искусство должно прежде всего поглотить предмет, переработать его и затем представить в новом виде, параллельном, если хотите, с материалами, из которых оно почерпнуло свою задачу, но нисколько с ними не схожем» [34].
Если мыслительный эмпирический предмет, поселенный в произведение, остался самим собою, это не творение истинного художества. В творении высокого искусства реальный предмет погибает, чтобы дать жизнь предмету художественному, лишь обманчиво похожему на прототип, но иному по своей сути, по новым многообразным качествам. «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». Эмпирический предмет – лишь почва и пища. Усваивая его себе, рождающийся художественный предмет пронизывает его корнями своих интенций, делает его своим, и вот уже в его капиллярах течет сок другого – художественного – организма. Усвоение предмета, и отдаленье от него, и преображенье его в акте творенья замечательно дважды очерчено в гоголевском «Портрете»: «Уловленные им черты, оттенки и тоны здесь ложились в том очищенном виде, в каком являются они тогда, когда художник, наглядевшись на природу, уже отдаляется от нее и производит ей равное создание». И в другом месте: «Но властительней всего видна была сила созданья, уже заключенная в душе самого художника. Последний предмет в картине был им проникнут; во всем постигнут закон и внутренняя сила. <…> Видно было, как все извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной, торжественной песнью. И стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданьем и простой копией с природы».
Степень преображения эмпирического предметного прототипа у разных писателей различна; у Гоголя она высока. В создании картины его необычного мира художественному предмету принадлежит едва ли не главная роль.
2Там так заставлено пространство…Не протолкнуться, не вздохнуть.А. КушнерРассмотрим основные сферы гоголевского вещного мира, исходя из достаточно традиционного членения, как то: природные предметы (ландшафт, пейзаж, местность), внешний облик героев (портрет) и предметы, с ними связанные, – интерьер, одежда, экипажи, гастрономия и т. п.
Не беря слишком очевидных в своей необычности «чудесных», «необъятных», «очарованных», «ослепительных», фантастических (ночью «вместо месяца светило там какое-то солнце») пейзажных картин «Вечеров на хуторе…» и «Миргорода», отметим, что эта же необычность, «чудесность» является структурной чертой построения пейзажа Гоголя позднего. «Зелеными облаками и неправильными трепетолистными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленной бурею или грозою, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна <…>. Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенное между них углубление, зиявшее, как темная пасть <…> молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои лапы-листы, под один из которых забравшись бог весть каким образом, солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте…» («Мертвые души»). В описании самого обычного заглохшего сада путем сравнений или само по себе обнаруживается много причудливого: береза, как сверкающая мраморная колонна, огненный лист и т. п.
Это впечатление поддерживается и усиливается особенностями гоголевского колорита – «редкой способностью дать картину из света, мрака и отсверков» [35], интенсивностью цвета, резкостью переходов, красочными контрастами, пляской теней и цветовых пятен.
Чудесным, грандиозным, блистающим может предстать и город: «Боже мой! стук, гром, блеск <…> домы росли и будто подымались из земли на каждом шагу; мосты дрожали, кареты летали; извозчики, форейторы кричали; снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней…» («Ночь перед Рождеством»). В совершенно другом по теме и установке произведении – «Невском проспекте» – тоже обнаруживается «какой-то заманчивый чудесный свет» и другие удивительности. По точному замечанию В. Гиппиуса, гоголевская «манера освещает все самые обыденные фигуры фантастическим светом» [36].
И одновременно экзотичность урбанистического пейзажа проявляется в картинах противоположного характера: в «удивительной», «единственной, какую только вам удавалось когда видеть», луже («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»), заборе, возле которого «навалено на сорок телег всякого сору» («Ревизор»). «Местами эти дома казались затерянными среди широкой, как поле, улицы и нескончаемых деревянных заборов <…> где магазин с картузами, фуражками и надписью: „Иностранец Василий Федоров”; где нарисован был бильярд с двумя игроками <…> с… несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими на воздухе антраша» («Мертвые души»).
Не менее десятка раз описываются в «Мертвых душах» дороги и мостовые, «запруженные грязью» или имеющие «подкидывающую силу»; апофеозом звучит изображение деревянной мостовой в деревне Плюшкина, «перед которою городская каменная была ничто. Эти бревна, как фортепьянные клавиши, подымались то вверх, то вниз, и необерегшийся ездок приобретал или шишку на затылок, или синее пятно на лоб, или же случалось своими собственными зубами откусить пребольно хвостик собственного же языка». Столь же странна, удивительна местность и между населенными пунктами: «Едва только ушел назад город, как уже пошли писать, по нашему обычаю, чушь и дичь по обеим сторонам дороги: кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор».
Существенно то, что оба рода пейзажных картин, видимо противостоящих («чудесных» и являющих «чушь и дичь»), строятся на одном и том же внутреннем принципе – на необычности, доведении некоего качества, безразлично, «высокого» или из области «низкой» натуры, до крайних его пределов.
Этому же принципу подчиняется и изображение интерьера. Если это какой-нибудь «вросший в утес» дворец, то там и «полуторасаженные зеркала», и «драгоценные марморы на стенах» («Мертвые души»), и «воздушная лестница» («Невский проспект»). Но и обычные апартаменты заполнены сплошь вещами необыкновенными. В трактире обнаруживается «зеркало, показывающее вместо двух четыре глаза, а вместо лица какую-то лепешку», или солонка, «которую никак нельзя было поставить прямо», или подушка, «которую в русских трактирах вместо эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник». У Коробочки – часы, шипящие так, «как бы вся комната наполнилась змеями», и бьющие «с таким звуком, как бы кто колотил палкой по разбитому горшку»; у Ноздрева – «турецкие кинжалы, на одном из которых по ошибке было вырезано „Мастер Савелий Сибиряков”», и шарманка, где «мазурка оканчивалась песнею: „Мальбруг в поход поехал”, а „Мальбруг в поход поехал” неожиданно завершался каким-то давно знакомым вальсом»; в кабинете Манилова на окнах – «горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядками».
Все эти интерьеры очень разнокачественны и наполнены самыми несхожими предметами, но предметы эти имеют единое свойство общей странности. Вещи в доме Ноздрева соединены по принципу совершенной ненужности и сборной случайности, у Собакевича – тем, что «все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома <…> каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: „И я тоже Собакевич!”» Предметы, заполняющие комнаты Плюшкина, вообще представляют собою мусор и то, что обычно выбрасывается (многое уже и было кем-то выкинуто, но подобрано хозяином комнат): «…отломленная ручка кресел <…>, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов. <…> Что именно находилось в куче, решить было трудно <…> заметнее прочего высовывался оттуда кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога».
Каждая вещь поразительна чем-нибудь одним или курьезна в целом; собранные в интерьере вместе, они производят впечатление настоящей кунсткамеры.
Не менее жилищ экзотичны экипажи гоголевского населения: «Каких бричек и повозок там не было! Одна – зад широкий, а перед узенький; другая – зад узенький, а перед широкий. Одна была и бричка и повозка вместе; другая ни бричка, ни повозка; иная была похожа на огромную копну сена или на толстую купчиху; другая на растрепанного жида или на скелет, еще не совсем освободившийся от кожи; иная была в профиле совершенная трубка с чубуком; другая была ни на что не похожа, представляя какое-то странное существо, совершенно безобразное и чрезвычайно фантастическое. Из среды этого хаоса колес и козел возвышалось подобие кареты с комнатным окном, перекрещенным толстым переплетом» («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»). «Для этого были запряжены дрожки с огромными кожаными фартуками, от которых <…> воздух наполнялся странными звуками, так что были слышны и флейта, и бубны, и барабан; каждый гвоздик и железная скобка звенели до того, что возле самых мельниц было слышно, как пани выезжала со двора, хотя это расстояние было не менее двух верст» («Старосветские помещики»). Но как между изображениями «маленьких, низеньких» комнат вдруг является дворец, так и здесь вдруг мелькнет и пропадет экипаж, замечательный совсем в другом отношении – «с золотой упряжью, картинными конями и сверкающим блеском стекол» («Мертвые души»).
Столь же экзотична в гоголевском вещном мире и гастрономия с ее пряженцами, мнишками в сметане, пундиками, масленцами, утрибкою, грибками с чабрецом и другими грибками – с гвоздиками и волошскими орехами, с неназванным кушаньем, «которое очень походило видом на сапоги, намоченные в квасе». Здесь можно увидеть индюка величиной с теленка и ватрушку с тарелку и, напротив, лимон «ростом не более ореха», какой-то фрукт, который «ни груша, ни слива, ни иная ягода», мадеру на царской водке и тому подобное, так что кошка, которую, по словам Собакевича, ободрав, подают у губернатора вместо зайца, не выглядит большой неожиданностью и вполне вписывается в эти редкостные гастрономические натюрморты.
В одежде гоголевских героев та же амплитуда удивительного – от роскошных «золотых», «эфирных» одежд до «демикотонного сюртука со спинкою чуть не на самом затылке», тулупа, «страшно отзывающегося тухлой рыбой» или вообще «какой-то дряни из серого сукна».
В «Замечаниях для господ актеров» Гоголь писал, что дамы должны быть «одеты довольно прилично, но что-нибудь должны иметь не так как следует: или чепец набекрень, или ридикюль какой-нибудь странный». Многие гоголевские герои имеют в одежде лишь одно что-нибудь «не так», но именно оно и делает ее невиданным нарядом, подобно тому как в ноздревской шарманке, игравшей даже «не без приятности», «была одна дудка очень бойкая, никак не хотевшая угомониться, и долго еще потом свистела она одна». Таков, например, фрак цирюльника Ивана Яковлевича из «Носа»: он «был пегий, то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках; воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки».
В портрете – также господство нетривиальных признаков. Хозяин лавки выглядит так, что «издали можно было подумать, что на окне стояло два самовара»; грязные ноги у девчонки похожи на сапоги; множество поражающих черт в известнейших портретах помещиков из «Мертвых душ», героев «Ревизора» и «Женитьбы», не говоря уж о персонажах «Вечеров на хуторе…» или «Миргорода». Таковы же и включенные в общие описания живописные портреты: «На одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал». «Потом опять следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные» («Мертвые души»).
И, как всегда, на другом полюсе – удивительности противоположного рода, например замечательная женская красота: «Это было чудо в высшей степени. Все должно было померкнуть перед этим блеском. Глядя на нее, становилось ясно, почему итальянские поэты и сравнивают красавиц с солнцем. Это именно было солнце, полная красота. Все, что рассыпалось и блистает поодиночке в красавицах мира, все это собралось сюда вместе. <…> Это была красота полная, созданная для того, чтобы всех равно ослепить! Тут не нужно было иметь какой-нибудь особенный вкус; тут все вкусы должны были сойтиться, все должны были повергнуться ниц: и верующий и неверующий упали бы перед ней, как перед внезапным появлением божества» («Рим»).
Подобного рода восхищающие автора «ослепительные», «божественные», «чудесные» явления мира видимого – касаются ли они тварного или рукотворного мира – с ясностью показывают узость распространенных вплоть до учебной литературы утверждений, будто гоголевский гротеск призван обличать одни уродства действительности. С неменьшею энергией он направлен на воспроизведенье ее красоты. «Понятие сатиры, отрицания, осуждения, – справедливо замечает современный исследователь, – никак не могут претендовать на определение целостной природы искусства Гоголя» [37]. Рядом с пафосом отрицания живет пафос утверждения мира как удивительного и чудесного творения.
3Впечатление единственности явленного вещного мира создается не только необычностью отдельных его предметов. Оно создается построением его в целом и характером авторской позиции.