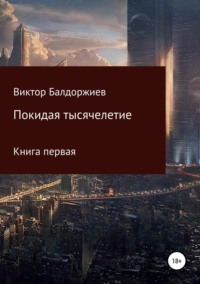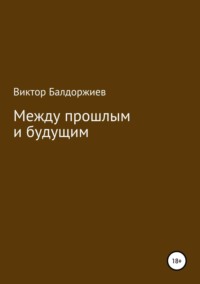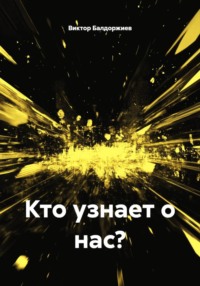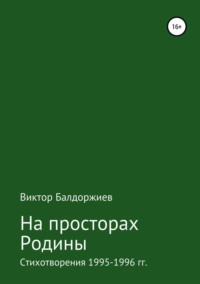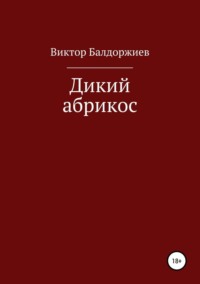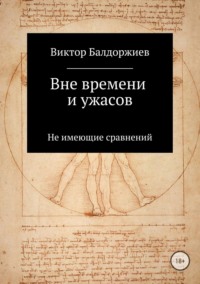Полная версия
В пути
– Значит, ситуация только помогла Вам?
– Вообще, любую ситуацию надо использовать для развития, чем я и занят всю жизнь. Плоды всегда в приобретении ясного взгляда насквозь. Далее это приобретение должно работать на общество.
Как это достигается?
Ощущение настоящей радости находится в индивидуальном метафизическом пространстве, которое не связано с условиями времени, там нет никакой зависимости. В этом пространстве и происходит процесс непрерывного развития, из этого же пространства человек выходит в реальность, имея собственное мнение. Примерно таково же и развитие народа, который становится субъектом истории.До той поры он – полностью управляемый объект без мнения, истории, ибо у него нет опыта мышления и развития.
Простое пребывание в реальности доводит до банального скотства: пожрал, поспал, посрал, не преминув при этом пообщаться с подобными себе, репостнув в социальных сетях, если умеет, своё, но чаще чужое дерьмо.
– Расскажите про свой родной край, его особенностях, биэнергетике и пассионарности?
– Это пространство от монгольской границы до реки Онон. По-моему мнению, настоящая Халха – до Онона, за которым начинается – Ара-Халха. Кстати, в мой первый приезд в Маньчжурию, местный баргут спросил меня: «Вы из Ара-Халхи?». Так выясняется подлинная историческая география, существующая в памяти народа.
Конкретнее, моя Родина – пространство между Улзой, Ононом и Аргунью. Это обширная земля животноводов, подлинные степи этнических монголов, владения Чингисхана и Джамухи. Если вдаваться глубоко в историю, то Онон – Чингисхан, Аргунь – Джамуха. Все эти места, включая и Улз гол, упомянуты в Тайной истории монголов.
На части территории находится «Даурский заповедник», который входит в состав международного резервата «Даурия», находящего в Китае, России, Монголии – одного из крупнейших в Азии. Вместе с заказником «Долина дзерена» он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть российско-монгольского объекта «Ландшафты Даурии».
– Место, где Вы живёте, можно считать родиной монголов?
– Без никакого сомнения. Вообще, обширный резерват Даурия, куда входят одноимённые заповедники названных трёх стран – территория этнических монголов, то есть наша территория. Это уникальная степь, которая медленно, но неумолимо, уничтожается человеком. Например, Улз гол и Ималка впадают в Торейские озёра, которые периодически высыхают. Но в последнюю засуху, которая длилась почти 20 лет, очень заметно влияние человека. Россия озабочена строительством плотины на Улз гол, которое ведётся на стороне Монголии.
Между тем, здесь такая история, что даже камни Торейских озёр напоминают о гуннах, а берега Онона и Аргуни о Чингисхане, Хасаре, Джамухе… 4 из 8 известных оседлых городов средневековых монголов находятся здесь. По утверждению российских востоковедов, Чингисхан родился именно здесь, о чём сказано в Статистическо-географическом словаре П. П. Семёнова-Тян-Шанского. По этому поводу всегда возникают ожесточённые споры. Но какими бы они ни были, очевидно, что история монголов отдана на разграбление и разные толкования кому угодно в мире, конкретнее она втянута в границы двух Монголий, бурятских округов и республики и подвергается насилию в них. История – это мать, которую надо беречь, как самое дорогое и необходимое.
– Где исторический ареал этнических монголов?
– Ареал монголов – Внутренняя и Внешняя Монголии, Тува, Алтай, весь Байкальский регион и, конечно, приграничные районы Забайкальского края, куда входит Ононский района и село Новая Заря, где я и живу в настоящее время.
Здесь стык границ трёх стран – Монголии, Китая и России. Отсюда прекрасно видима история монголов и перспектива их развития. С этой точки легко преодолевать границы и изучать территорию, населённые пункты и народы, чем я и занимаюсь время от времени.
Конечно, здесь присутствует дух вечности и особая пассионарность, которые трудно понять творческим людям, писателям, художникам, кинематографистам, ведь они вечно нуждаются в деньгах, а потому рвутся в регионы с хорошим финансированием и инфраструктурой. Но подлинная история монголов осталась здесь, где всё ещё нищее средневековье…
– Какой состав населения Вашего района и села?
– Ощущается большое присутствие бурят-монголов, хотя нас в районе не более 30 процентов. В Новой Заре, наверное, до 90 процентов бурят-монголы. Когда-то у нас был крупнейший колхоз, где поголовье овец достигало до ста тысяч.
Вообще, в районе живут потомки русских и бурятских казаков, большинство русских сёл – бывшие казачьи станицы. У бурятских сёл – история только советского и постсоветского периодов. Кстати, территория нашего колхоза доходила до монгольско-советской границы, колхозники часто косили сено на территории Монголии, недалеко от Эрээнцава и Хуха уулы. Вместе с другими выезжал и я. А сегодня удивлённо спрашиваю у знакомых монголов: «Куда делись тарбаганы?». Забайкалья без леса и Монголия без тарбаганов – нонсенс! Колхоза, конечно, у нас давно нет. Но вокруг села около 40 животноводческих стоянок, на каждой значительное количество овец и других животных.
В последние годы замечаю, что настоящие монгольские степи Забайкальского приграничья, территория между Ононом и Аргунью, о которой в 1772 года П. С. Паллас писал, что на прекрасных степях Даурии выращивают самых крупных овец в мире, становится пустынной и безлюдной. Людей и животных всё меньше и меньше… Эту территорию надо осваивать. Но кто, когда и как?
– Как Вы зарабатывали на жизнь? И каким было ваше первое произведение?
– Всю жизнь я зарабатывал и зарабатываю на жизнь текстом. Начинал с того, что сдавал экзамены за нерусских ребят, писал сочинения, потом курсовые, рефераты, дошёл до диссертаций разных уровней. Потом появились заказные книги. Первой такой книгой была повесть «Огненные тропы», материал для которой собирал редактор газеты, в которой я работал, Цыден Батомункуевич Батомункуев. Из этих материалов я создал повесть. Герой – житель села Алханай Бадма Жабон. Книга увидела свет в 1987 году, экземпляры отправили в библиотеку президента России. В 1996 году Бадме Жабону присвоили звание Героя России.
Надо сказать, что в документалистике и публицистике меня всегда интересует конкретный результат. Работу без результата я не представляю. Это мой категорический императив. В качестве примера могу сказать, что в посёлке Агинское Агинского Бурятского округа есть две улицы, названные именами героев моих заказных книг.
Первым художественным произведением в советское время были стихи – сборник «Каторга», потом рассказы, затем роман «Разные люди».
– Как Вы понимаете признание или не признание произведения? Обязательно ли произведение должно быть признано народом? Что такое халтура?
– Любое произведение в России вызывает симпатию или антипатию. На каждый роток не накинешь платок. По большому счёту и в первую очередь, каждый автор пишет лично для себя. Если произведение понравилось многим людям, то это большая удача.
Во-вторую очередь, автор пишет по заказу, но и тут он должен творить как для себя. Любой мастер должен делать вещь, как для себя. Заказы – это признание мастерства. Я создавал «Союз искусств», члены которой могли создавать от гимна до архитектурно-скульптурного комплекса. На самом деле это задачи государства. Выполняя любой заказ, автор должен халтурить не халтуря. В этом основная финансовая сторона работы любого автора.
– Творчество – личное дело или у Вас есть другое мнение?
– Конечно, творчество – личное дело любого человека, награда – в самом процессе творения, в удовлетворении. Это его духовная и даже физиологическая потребность. Если я не формулирую свои мысли, то у меня начинает болеть голова. Готовое произведение не для показа с тем, чтобы вызывать симпатию или антипатию. Это ваше дитя, которое растёт и начинает ходить. А далее вопрос «нравится – не нравится» отпадает.
Лет тридцать я ездил с творческими бригадами по Забайкальскому краю, читал стихи. В то время они нравились всем. А как они воспринимаются сегодня, не знаю…
В 2008 году я вместе с друзьями поставил у самой китайско-российской границы архитектурно-скульптурный комплекс «Утвердившим рубежи России». Он стоит, и мне неважно кто и что думает о нём, но я радуюсь, что туда ездят и молятся люди. Или же все монголы, включая руководителей разных уровней, со слезами на глазах читают моё стихотворение «Ах, как поёт в ночи монголка…», но оно малопонятно людям других национальностей.
– Как Вы видите себя в поэзии?
– Этот вопрос не для меня и, вообще, не для монгола? Не думал об этом. Для ответа на этот вопрос требуется читающая масса, серьёзное информационное поле, длительный период времени. А пока наш человек лучше умрёт за какие-то чужие дела, чем прочитает и поймёт стихотворение. Есенин в своё время сказал, что русские стихи читают только еврейские девушки.
– Известно, что сейчас вы заняты документалистикой. Пробовали ли вы себя в написании сказок? Ведь здесь океан возможностей.
– Только один раз. Во-втором классе. Пока я вижу возможности нашего общества в документалистике. Для того, чтобы так документально фантазировать как Джон Рональд Руэль Толкин нужен не только соответствующий уровень подготовки, но соответствующая аудитория с такой же подготовкой. Возможно, моя документалистика и заказные книги готовят такую аудиторию.
– Вашей жене нравятся ваши произведения? А вашим детям? Внукам?
– Некоторые, написанные им и для них. Они – люди других потребностей, что меня радует. Сумасшедшим в семье должен быть один…
– Какие Ваши любимые произведения?
– Много. «Триумфальная арка», «Чёрный обелиск» и другие книги Ремарка. Конечно, «Мастер и Маргарита» и всё, что написал М.А. Булгаков, длинный ряд авторов Европы и Америки. В эти дни читаю произведения Д. Толкина. Их надо читать и перечитывать. Но очень мало времени.
– Каково Ваше отношение к слогану «Боевые буряты»?
– Очень неудобный вопрос. Никакое, я к ним не отношусь. Думаю, что это выдумка или чей-то проект. Вообще, все процессы, происходящие в мире – наследственные. Ко мне это не относится.
– Ваши пожелания монголам Мира?
– Непрерывно развиваться. Это единственный способ жизни, другого не существует.
– Кого вы считаете сильнее: мужчину или женщину? Почему?
– Женщину. Инстинкты сильнее, что и доказано эволюцией.
– Как бы вы могли сформулировать такое понятие, как история?
– Один их смыслов, созданных человеком. Эволюция создала великого фантазёра – человека, единственное занятие которого – формулировать для себя смыслы, без которых его существование обретает страшную реальность – бессмысленность. История – этапы развития человека и обретения им смыслов, не зная своих целей. Возможно, эти цели появятся и станут реальностью. Например, бессмертие или значительно долгая, чем сейчас, активная жизнь.
– Почему мы выиграли Отечественную войну?
– Победа народов СССР в Великой Отечественной войне тактическая. Величие её несомненно, и оно навеки осталось в прошлом. День Победы – это день скорби и памяти. И личное мужество никто не отменял.
Но если говорить о Второй Мировой войне в целом, то СССР проиграла её вместе с Германией, что и показывают, время, падение Берлинской стены, лагеря социализма, отсутствие собственных технологий и существование за счёт продажи сырьевых ресурсов. В человеческом мире любая победа тактическая, стратегия – за эволюцией.
– Ваш внук еще ребёнок. С какими книгами, живописными произведениями, музыкальными сочинениями вы познакомили его в первую очередь?
– Их четверо. Один – студент, второй – подросток, в пятом классе, третий – во-втором классе, четвёртая – ходит с детский сад. Вот она – художник, скульптор, сочинитель. Всем показывал мультфильмы, рассказывал сказки. Трое выросли на моих руках, старший попал в мои руки прямо из родильного дома. Система образования в России давным-давно рухнула, новой нет и не предвидится. Надеюсь, на собственный пример. Пример может быть только собственным, никакие другие примеры не действуют. Проблема в том, что с детьми я сам становлюсь ребёнком…
– Если бы вы имели возможность обратиться с советом или просьбой ко всем людям на земле, что бы вы сказали им?
– Развиваться. Учиться всегда и в любых условиях. Наверное, это не совсем корректно – призывать, но людям нужны мотивации…
– Случалось ли вам бывать несправедливым? И два слова о любви.
– Большинство людей считают себя справедливыми, что, конечно, не так. Естественно, и я бывал несправедливым. Во-многом, я был несправедлив по отношению к простым людям, обывателям, хотя и вырос среди них. Главное значение монгольского понятия «Любовь» – «Жалеть». Это тождественные слова. Большинство моих ошибок были из-за недопонимания или недооценки своего, монгольского, мира. Это я стал понимать уже в зрелом возрасте, почувствовав что-то неладное в себе.
– Что конкретно повлияло на понимание каких-то сбоев в своём развитии?
– Однажды я увидел себя на фото, среди многих начальников, депутатов, писателей, артистов. И вдруг мне стало очень и очень плохо. Через месяц я уехал домой, в село, где и живу до сих пор. Иногда со слезами на глазах слушаю жену и её воспоминания о том, как её, месячную, удочерила 54-летняя женщина, как она, одинокая, растила её в колхозе, как они собирали вместе щепки на строительном дворе, пилили дрова, жили в домике 3х4 и о многом другом, слушаю рассказы других людей. И понимаю – какой же я черствый и несправедливый человек…
– Не было ли случая, когда Вы, поступив в высшей степени принципиально, страдали от результатов своего поступка?
– Да, были. С молодых лет, в одиночку, я боролся с партийными функционерами. Вероятно, я – единственный журналист СССР, который говорил на эту тему по телефону из бревенчатой русской избы с берегов Аргуни с партийным сотрудником ЦК КПСС. Я помню его фамилию – Шавкат Мухитдинович Юлдашев, он работал в орготделе ЦК КПСС, потом, кажется, возглавлял Верховный Совет Узбекистана…
Тогда я был вынужден уехать на Сахалин, но и оттуда приезжал в Забайкалье. После моего разговора снимали с работы многих партийных и советских работников, шло большое кадровое передвижение, которое, может быть, до сих пор непонятно моим землякам. Я выиграл эту битву. Конечно, они бы меня не пощадили, ведь ещё раньше мои противники намеревались упечь меня на много лет в тюрьму. Не удалось, но… Все мы люди, и всех жалко. Как писал какой-то писатель: «Чтобы не сделал русский человек, всё равно его жалко…» И себя жалко, и врагов жалко. Почему бы не жить всем спокойно и счастливо?
– Как вы воспринимаете языки других народов?
– Очень хорошо. Это музыка, которую надо слушать и слушать. Но один и тот же язык надоедает. Хочется слушать, говорить и писать на других. Все языки и великие, и могучие.
– Что бы вы посоветовали тем, кто только начинает свою жизнь?
– Учиться. Не курить табак, наркотики, не пить водку. Заниматься точными и естественными науками в следующей последовательности: математика – язык Вселенной, физика – физические процессы, химия – химические процессы, биология – биологические процессы и возникновение жизни. Гуманитарными науками заниматься факультативно, ибо они не главные, но необходимые в смысле развития общей культуры. Всегда помнить кто ты, из какого народа, рода, семьи. Двигаться к вершинам от корней. Расти так, чтобы тебя было видно отовсюду, а не ездить куда-то, чтобы показать себя. Пусть к тебе едут…
– Что такое, по-вашему, русский характер? Его достоинства и недостатки? А что такое монгольский характер? В чем разница менталитетов?
– Таких понятий нет. В основном, они выдуманы. В таком ключе могут мыслить только те, кто живут в границах каких-то придуманных шаблонов. Русский характер – большая выдумка русских и еврейских литераторов. Монгольский характер – ещё не исследован вполне.
Величайший человек мира Иван Петрович Павлов в своих записках «Об уме и русском уме в частности» сказал, что «мы имеем дело с очень слабой мозговой системой…» И это написал русский человек. Не знаю, насколько это верно, но читать труды академиков желательно. В узком кругу я встречал и наблюдаю сильнейшие русские (русские ли?) умы. О монгольском уме пока ничего не сказано, но известно, что объём мозга бурят самый большой в мире, но это ни о чём не говорит. Может быть, тут какая-то аномалия? Лично я думаю, что у монголов, если они осознают необходимость развития, есть огромные возможности, ибо всю жизнь наблюдаю то, что буряты называют «бороо ухаан», то есть природный ум. Если прибавить к нему интеллект в общемонгольском масштабе, то получится непобедимый сплав, а у монгольских народов появится единая нейронная сеть. Как у евреев. Но для этого нужно развиваться, не время от времени, а непрерывно. Значит, нужны специальные государственные программы.
– Какой ваш любимый композитор? Почему?
– Иногда слушаю Баха. Возможно, он говорит устами Бога.
– Всегда ли вы говорите правду?
– «Правду говорить легко и приятно», – утверждает устами Иешуа М. А. Булгаков, но я бы добавил – не обязательно. Мы всю жизнь живём в очень опасной ситуации, а потому лучше думать, чем говорить. Полагаю, что наше положение в России лучшее для развития мышления, чем говорения каких-то никому ненужных и непонятных слов за рубежом, где всегда что-то недоговаривают. Это очень заметно, ибо напоминает человека, который ходит в трусах, одетых только до колена.
– Чему бы Вы смогли сейчас больше всего обрадоваться?
– Окончанию всех войн, смерти всех тиранов, прояснению сознания всех людей. В конце концов, люди везде и всюду должны жить счастливо, по большей части без всяких умствований.
– Что такое счастье?
– Жизнь…
– Вас не пугают высота или мороз, гроза или темнота?
– Пугают. Но не на столько, чтобы возник страх. Всегда рядом люди.
– Было ли в вашей жизни нечто, чего вы стыдитесь даже сейчас? Что это было?
– Конечно, было. Но зачем об этом говорить. И кому это надо?
– Как вы понимаете слово «профессия»? И что такое СМИ для страны?
– Профессия? Способ зарабатывания на жизнь, предварительно обучившись этому. СМИ – инструмент государства или других сил для воздействия на массы.
– Вы думали о том, что большая, может быть, лучшая часть жизни прожита? Или вы старались никогда не думать о таких вещах?
– Стал задумываться…
– Какие ваши самые любимые стихи? Или строчка, может быть, четверостишие?
– Их много. Возникают по случаям. Например, Бориса Пастернака:
Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлёт раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.
– Вам никогда не казалось, что когда люди веселятся, то вы чувствуете себя среди них лишним?
– Часто. Ни они, ни я не обязаны разделять свои чувства. Дело в том, что очень трудно отвлечься от того, чем ты занимаешься. Всяким делом надо заниматься, весельем – тоже…
– Вы завидуете молодости? Естественной, здоровой молодости, легкости, красоте, беззаботности, с ещё почти детскими представлениями о мире, наивными, но почти святыми? В связи с этими вопросами: вы умеете быть весёлым?
– Конечно. И по второму вопросу – конечно. Вообще, я весёлый человек.
– И вот пятидестый вопрос. Вы когда-нибудь голодали? Вы и ваша семья?
– Голодал только для похудения. Те, кто жили и живут рядом со мной, никогда не голодали. Я не могу себе это позволить. Однажды, располнев до 120 килограммов безобразной жизни, я взялся за себя и сбросил – 53 килограмма. Об этом писали в какой-то газете Бурятии. Голодание – полезно. Но условия, доводящие до голода людей, катастрофа, которую я бы никому не пожелал.
– Скажите, когда было слишком трудно, как вы находили силы жить дальше?
– Трудности – это природная катастрофа или война из-за неразвитых людей. Во всех остальных случаях – жизнь, где надо думать и работать. Слава богу, катастроф и войн я избежал. Но никто не даёт гарантий…
– Почти у всех людей проходящие поезда вызывают грусть. А у вас? Почему?
– Тоже. Надо ехать. Жизнь – это движение.
– Вам никогда не казалось, что вы честолюбивы? Вы никогда не думали: «Если бы я был главой государства, я бы сделал…»? Что бы вы хотели сделать?
– Честолюбие проходит. Известно, что человек с рождения истошно кричит «Я, я, я!», потом – «Я и Моцарт!», в итоге остаётся «Моцарт…».
– Вы верите в то, что снова может начаться война?
– Это не вера. Это предчувствие, живущее в каждом человеке.
– Скажите, пожалуйста, музыка вам когда-нибудь вот так, реально, что ли, помогала? Следите ли вы за мелодией, за движением музыкальной ткани, или вы забываетесь в концертном зале?
– Во-первых, у меня не было возможности ходить в концертные залы. Слушал пластинки, потом диски. Во-вторых, почему человеку обязательно должен кто-то или что-то помогать? Музыка – необходимое для человека явление. Меня музыка вдохновляет, очищает и, чувствую, во многом улучшает физиологию. Музыка, как и всякое искусство, – необходимость. Ведь можно вызывать разные образы или мелодии в любой ситуации, когда они необходимы. Может быть, в этом помощь? Вот, скажем, распинается в словоблудии какое-то начальство, а ты мысленным взором видишь картины Пикассо, Репина, Кандинского, не просто видишь, а под звуки музыки. Всё это создано Человеком существует в крови того, кто живёт вместе с человечеством, со всей его историей, а не только в «купи-продай» или «найди деньги»…
– Вы умеете ненавидеть? Помните ли вы зло? Если бы вам дано было выполнение одного желания, было бы это местью?
– У меня, кажется, нет таких чувств. Вместо этого, возможно, недоумение. Я зверь другой породы. Просто забываю всё отрицательное. Навсегда.
– Вы любите ходить в кино? Легко ли верите в происходящее на экране? Когда вы писали по-настоящему?
– В кино не хожу. Иногда проклинаю себя за то, что потерял веру в происходящее на экране. Для возврата нужны очень сильные произведения и эмоции. Ведь эмоциональный ум – основной, охватывающий мир целиком, запоминая все нюансы, а рациональный ум делит мир на части, которые начинают враждовать между собой. Синергия возможна только при эмоциональном уме.
В любом произведении любого автора возможна настоящая синергия, узнаваемая только при прочтении. Иногда это может быть всё произведение, иногда только некоторые части в нём.
Что такое писать по-настоящему? В смысле полностью отдаться призванию? Это другие условие, другая жизнь, возможности. У меня, рождённого в колхозе, таких условий, времени, возможностей никогда не было. А понимающего окружения и быть не могло. Всё время уходило и уходит на зарабатывание денег. Но и в этой жизни всегда присутствует то, что называют озарением, есть эмоциональный ум, синергия. Может быть, поэтому и получается что-то… По большому счёту, я никогда не работал по-настоящему, как мечтал и мечтаю.
– Какой период в своей жизни вы считаете счастливым? Вы счастливый человек?
– Уже писал, что жизнь – это и есть счастье. Мысль – счастье. Всё вокруг – счастье. В поэтическом цикле монгольского поэта Данзангийн Нямсурена (1947-2003), которого я называю своим соседом, каждая вторая строка заканчивается словом «Сайхан!», то есть «Прекрасно!» Совершенно согласен с ним. Он жил и творил на южном берегу Зун-Торея, а я живу – на северном берегу Зун-Торея. Почему и соседи. Надо понимать, что каждый миг – неповторим.
– В каком возрасте вы в первый раз помните себя?
– Вероятно, два с половиной года. Меня везут в коляске мотоцикла «Ирбит», мы переезжаем с берега речки Ималка на берег речки Борзя. Рядом, вывалив алый язык, бежит остроухая пограничная собака, которую отец взял щенком на пограничной заставе. Собаку зовут Пальма. Мелькает высокая зелёная трава.
– Вы когда-нибудь испытывали унижение, которое, как вам тогда казалось, вы не сможете перенести?
– Нет. Несколько раз я был на грани уголовного преследования из-за того, что отвечал тем, кто пытался меня унизить. Потом такие случаи исчезли.