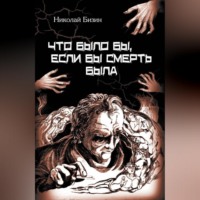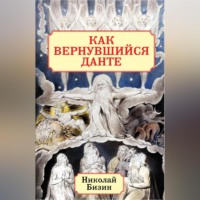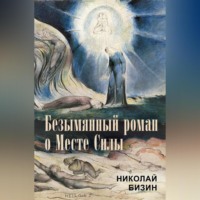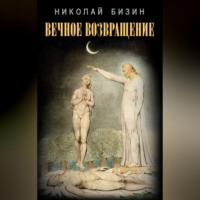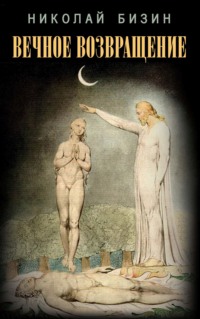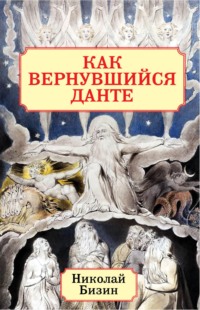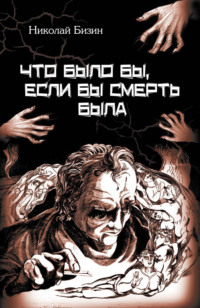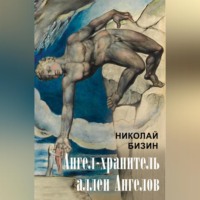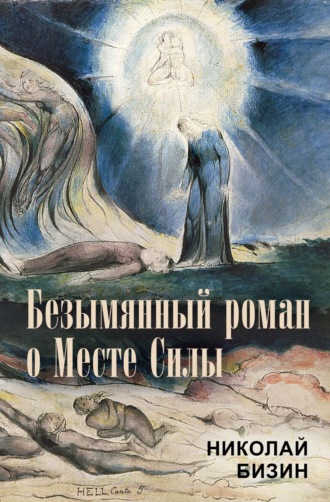
Полная версия
Безымянный роман о Месте Силы
На имя Хрущёва и Маленкова была составлена справка, в которой, на основе статистической отчётности 1-го спецотдела МВД СССР, называлось число осуждённых за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления за период с 1 января 1921 года по 1 июля 1953 года – 4 060 306 человек. Эта цифра слагалась из 3 777 380 осуждённых за контрреволюционные преступления и 282 926 – за другие особо опасные государственные преступления, в том числе, приговорённых к высшей мере наказания – 799 455 человек, включая уголовников.
Наибольшая численность заключённых во всех местах лишения свободы (лагеря, колонии, тюрьмы) зафиксирована на 1 января 1950 года – 2 760 095 человек. Теперь сравните эти цифры с хрущёвским заявлением о том, что «когда Сталин умер, в лагерях находилось до 10 миллионов человек» (почти четырёхкратная разница говорит о том, что это была сознательная ложь); с утверждениями Солженицына, который «довёл» число репрессированных и расстрелянных до 110 миллионов (на что Сталину потребовалось бы 40 лет ежегодно менять контингент «зэков»), и, наконец, с «абсолютным рекордом» от Немцова в 150 миллионов (население СССР в 1939 году, согласно данным Всесоюзной переписи, составляло 170,6 миллиона человек).
Главной причиной роста численности заключённых в конце 1940-х – начале 1950-х годов была успешная работа правоохранительных органов с уголовной преступностью. На рассмотрение Коллегии ОГПУ, Особого совещания и других органов представлялись дела не только политических или особо опасных государственных преступников, но и обычных уголовников, грабивших заводские склады, колхозные кладовые и граждан. По этой причине они включались в общую статистику как «контрреволюционеры» и сегодня считаются «жертвами политических репрессий». Уголовных в общем составе осуждённых всегда было значительно больше, чем политических (от 70 % в 30-х годах до половины в 1937–38-х и послевоенное время). При этом подавляющее большинство уголовников было осуждено именно за уголовные преступления, без предъявления обвинений политического характера.
Рассказ о репрессиях не будет полным, если не разобраться с тем, что произошло в 1937 и 1938 годах, и что называют теперь «Большим террором». К высшей мере наказания в те годы было приговорено соответственно 353 074 и 328 618 человек.
1937 год – это год прямых, тайных, равных и всеобщих выборов по новой Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 года. Несмотря на то, что изменения в избирательном законе означали крупнейшую после октября 1917 года демократическую реформу советской политической системы, поскольку в выборах теперь могли принимать участие люди, ранее лишённые избирательных прав. Новая Конституция уравняла права рабочих, крестьян, интеллигенции и казачьих формирований. «Всеобщие, равные, прямые и тайные выборы будут хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти», – отметил Сталин в беседе с американским корреспондентом Р. Говардом 1 марта 1936 года.
При тайных и прямых выборах для партийной номенклатуры риск потерять власть был слишком велик. И она сделала свой выбор. Вот цитаты из некоторых выступлений партийных секретарей из регионов на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года:
«Косиор (Украина): «Надо с подозрительностью относиться к чужеродным элементам. Верующие активизировались, их – тысячи».
Хрущёв (Москва и Московская область): «В Рязани недавно выявили эсэровскую группировку!»
Мирзоян (Казахстан): «В связи с предстоящими выборами по новой системе наметилось большое оживление враждебных элементов – попов и мулл. Мы уже имеем ряд фактов, когда враждебные элементы из остатков бывшего кулачества и духовенства ведут подготовку и говорят: готовьтесь к выборам.»
Попок (Туркмения): «Вместе с духовенством большую активность проявляют возвращенцы-кулаки. Большое количество кулаков прошло через Соловки и другие лагеря и сейчас в качестве «честных» тружеников возвращаются обратно, требуют возвращения земли, предъявляют всякие требования, идут в колхоз и требуют приёма в колхозы. С Туркменией граничит Афганистан и Персия, куда в своё время была большая эмиграция. Сейчас усилился поток возвращающихся эмигрантов именно под влиянием новой Конституции. Требуют земли, жалуются, хотят в колхозы.»
Евдокимов (Азово-Черноморский край): «Контрреволюционная банда троцкистов, зиновьевцев, правых, леваков и прочей контрреволюционной нечисти захватила руководство в подавляющей части городов края. Эта банда ставила своей целью дискредитацию партии и советской власти и развал партийной работы.»
Постышев (Украина): «Из 52 кооптированных – 15 троцкистов, открытые враги. Вот вам положение: секретарь – враг, председатель исполкома – враг, директор МТС – враг, зав. райзо – враг, зав. райфинотделом – враг. Что остаётся. И вот выборы – это тоже серьёзное дело. Если мы у себя распустились – внутри партийной организации, так где же нам справиться с многомиллионными массами!»
Крупская: «Закрытые выборы будут на деле показывать, насколько партийные товарищи близки к массам и насколько они пользуются авторитетом у масс.»
Вдова Ленина предупредила бывшую «ленинскую гвардию», но они поняли это по-своему. Врагов оказалось море – миллионы. Что же делать людям, прошедшим огонь, воду и медные трубы революций и Гражданской войны? Отдать власть в своих областях, краях и республиках? Нет! Самый простой выход – сорвать выборы. Как это сделать? Надо организовать борьбу с явными и мнимыми врагами!
Будущие «безвинные жертвы сталинских репрессий» обезумели от мысли о своём возможном смещении в ходе альтернативных выборов. Они поставили Сталину ультиматум: или выборы по новой Конституции, или «лимиты» на расстрелы. Вот пример их первоначальных «предложений»: по Узбекистану – 5441 человек, по Куйбышевской области – 6140, по Дальневосточному краю – 6898, по Казахстану – 6749, по Азово-Черноморскому краю – 13606. Признанный XX съездом «невинным» Р. Эйхе по Западно-Сибирскому краю пожелал расстрелять 10800 человек без учёта отправляемых в ссылку. Но больше всех отличился будущий докладчик XX съезду и разоблачитель «сталинских» репрессий Хрущёв: из 38 секретарей МК и МГК, работавших в 1935–1937 годах, уцелело лишь трое. Были арестованы 136 из 146 секретарей горкомов и райкомов. Из 86 членов ЦК КП(б) Украины осталось в живых тоже только три человека. Всего за 1935–1938 годы Хрущёв подписал 160 тысяч смертных приговоров, так что страх перед расплатой у него был. И сильный.
Вместе с настоящими врагами в жернова «Большого террора» действительно попадали десятки тысяч не только невинных, но и наиболее активных и искренне преданных делу строительства социализма людей. Значительную часть арестованных по политическим статьям составляли люди, попавшие в волну репрессий в разгар эпидемии доносов, охвативших страну. Доносы писались на знакомых и сослуживцев с целью улучшения материального, жилищного положения, личной неприязни и тому подобных низменных причин. Аресты безвинно оговорённых людей вызывали цепную реакцию репрессий их родственников, друзей и товарищей по работе.
Было бы наивным заблуждением полагать, что в стране, за треть века пережившей Первую мировую войну, три революции и Гражданскую войну, находящейся в стадии своего становления и в преддверии новой войны, отсутствовали контрреволюционеры, иностранные шпионы, террористы и диверсанты.
Самые радикальные представители оппозиции были готовы воевать против большевиков «хоть вместе с дьяволом», вместе с иностранными государствами разрушить, разделить страну. «Следствие считает установленным, что: «в 1932–1933 гг. по заданию разведок враждебных СССР государств обвиняемыми по настоящему делу была составлена заговорщическая группа под названием «правотроцкистский блок», поставившая своей целью шпионаж в пользу иностранных государств, вредительство, диверсии, террор, подрыв военной мощи СССР, провокацию военного нападения этих государств на СССР, поражение СССР, расчленение СССР и отрыв от него Украины, Белоруссии, Средне-Азиатских республик, Грузии, Армении, Азербайджана – в пользу упомянутых иностранных государств, наконец, свержение существующего в СССР социалистического и государственного строя и восстановление в СССР капитализма и власти буржуазии». (Судебный отчёт. Материалы Военной коллегии Верховного Суда СССР. М., 1997, с. 688). После того, как на наших глазах в 1986–1991 годах так всё и произошло, разве повернётся язык считать обвинения 1938 года сфабрикованными от начала и до конца? Во время «перестройки» оказалось, что классовые враги никуда не делись, они не только сохранились, но и окрепли настолько, что сумели успешно претворить в жизнь то, о чём мечтали и к чему стремились их предки и единомышленники полувеком ранее: свергнуть советскую власть, уничтожить социалистический строй и разрушить государство.
Дико рассматривать как необоснованные юридические документы, опубликованные в сотнях тысячах экземпляров: процессы Промпартии, процессы 1936 и 1938 годов, приведённый выше судебный отчёт…
Ещё раз повторим: несмотря на приведённые выше цифры, подавляющего большинства населения СССР «сталинские» репрессии не коснулись. В разгар «сталинских» репрессий, в 1937 году, доля рабочих и колхозников среди репрессированных составляла 9,3 %, а в самое половодье хрущёвской «оттепели», только в 1957 году, из всех осуждённых по «политическим» статьям они составляли уже 81,7 %, и только 18,3 % – служащие, к которым относили всю интеллигенцию (Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущёве и Брежневе. 1953–1982 гг.: М., 2005, с. 39, 40). За 1957–1958 годы количество осуждённых за антисоветскую агитацию и пропаганду составило 41,5 % от общего числа всех осуждённых за 32 года (1956–1987) «либерального коммунизма» (там же, с. 36).» (Ричард Косолапов. Номенклатурный террор)
Для меня вышеприведённые факты были очевидностью.
Но для моих собеседников в писательском новоделе Мира Искусств, даже если бы они знали о простой статистике данных явлений, мои доводы показались бы абстракцией, отвлечением от сути страданий репрессированных.
Я был с ними, в общем-то, согласен: Мир Искусств (внешне столь прельстительный) – безысходен и ужасен.
В нём причащение Христовых Тайн – обратно (сделайте мне наглядно) превращается из Плоти и Крови в вино и хлеб (хорошо, если не мертвечину); поэтому я не спорил с моими со-беседниками, а со-чувствовал с ними.
И думал о Жанне д’Арк – по совершенно дурацкой причине: я тоже любил некую Жанну из Санкт-Ленинграда.
Я вообще (в тот момент Вечности) не собирался мыслить глобально.
Я должен был бы (в любой момент Вечности) именно то, что и делал: глобально со-чувствовать – как переломить смердящую жуть падшей природы человека, в каждой отдельной точке своей настолько умно’ самооправдываемой…
И всё это ещё более отягощалось тем, что и сам я (homo sum) бесконечно самооправдываюсь – там, где не может быть достойных оправданий.
Я, само-оправдываясь, сотворяю мифы о самооправдании: например, помянутый хазинский миф о назначении (какого-либо праведника) комендантом Освенцима и о (этим праведником) спасении из 2000000 обречённых хотя бы одного миллиона…
Далее – в логике мифа (раз уж я всё время помню о помянутых Жаннах (из Домреми и из Санкт-Ленинграда), точно так же я раз(-два-три-)мышлял об отношениях мужчины и женщины…
В русле этой небезупречной логики – думалось иногда: лучшим символом этого является именно завязка Тысячи и одной ночи; это было бы верно, если бы – не более многомерно, нежели тогдашние версификации волшебного быта…
Ах, если бы мне хоть краешком глаза посмотреть на сказочного ифрита!
Конечно, это всё – из серии «если бы директором был я»; тогда бы я с большим основанием раз(-два-три-)мышлял о людях, ставших средоточием силовых линий ноосферы (или призванных к служению Создателем).
Так или иначе – земной мерой для сущности мужчины является не-бесная женщина; не то, какова она – в блуде или святости плоти, а в своей не-бесной сути Вечной Женственности; это – нечто недосягаемое, и нет вопроса – почему любые отношения мужчины и женщины между собой (а так же – с невидимыми силами бесплотными) всегда обречены быть счастливо-несчастливы?
И что означает это понятие: счастье-несчастье?
Нет такого вопроса, ибо (на него) – сразу ответ: неужели этот примитивный «дуализм» инь и ян – лишь один из способов посмотреть на развилки истории со стороны?
Да! Разумеется даже разумом.
Казалось (в реальности) – и чувства мои, и разум не способны сдвигать и сопрягать миры; но – есть и другая логика… Далее – в логике мифа: и о наших репрессиях есть разные мнения.
Что народ их практически не заметил (и мне об этом не один раз говорила моя мама), что зачищались лишь т. н. руководящие работники и (гораздо реже) т. н. работники творческие, впоследствии люто отомстившие спасителю моей родины, тогдашнему Верховному Главнокомандующему.
У людей Мира Искусств (лукавого мира Князя Мира Сего) были все средства для создания подлых мифологем о героико-трагическом прошлом. Надеюсь, причина мифа о Жанне д’Арк более благородна (что её не спасли, но сожгли)?
Или нет?
Если верить всему вышесказанному о её происхождении, то – оче-видно: «Нельзя было сжечь по обвинению в колдовстве девушку такого высокого происхождения… Сейчас речь о другом, о жизни Жанны после… её официальной казни. Чтобы понять, как Жанна смогла избежать казни, стоит обратиться к описанию этого печального действа: «На площади Старого рынка (в Руане) 800 английских солдат заставили народ потесниться…наконец, появился отряд из 120 человек… Они окружали женщину, прикрытую… капюшоном до самого подбородка…». По сведениям историографов, рост Жанны составлял около 160 см. Учитывая двойное кольцо солдат вокруг нее, колпак на лице, сказать с уверенностью, что это была за женщина, не представляется возможным.» (Сеть)
А что за-очно?
Я знаю, мои «сказки» о Жанне (и о Деве, и о «моей» любимой, которая здесь лёгкой тенью) – всё это (почти) не имеет отношения к страшной сказке о репрессиях: ни к их реальности, ни к мифам о них; так зачем я всё это затеял?
А затем, что я жив и чувствую мысль эпохи.
Даже здесь, в новоделе Мира Искусств, где «Шахразада прекратила дозволенные речи» и перестала переливать из пустого в порожнее: время нашей тогдашней встречи истекло.
Я простился с пожилыми людьми и вышел из помещения, где мы с ними раз-говаривали; но (главное) – и после прощания с ними раз-(и два-и-три) – говор продолжился: плоскости бытия опять соприкасались, и я легко своими «обводами» души проникал в них.
Я мог бы остаться и поблагодарить со-беседников – за мои мысли, которыми они меня одарили.
Это(!) – очень драгоценно-личное: персонификация мысли или чувства.
Если(!) – кто-то дарует вам возможность овеществления (даже приближения к нему) невидимого, он заслуживает бес-конечной благодарности; тем более, что я (человек лишь предполагает) не ожидал немедленного овеществления…
Тем более – что «мою» (любимую) Жанну точно никто не сжигал, она всего лишь меня оставила.
Тем более – что рост «моей» здешней (любимой) Жанны был меньше 160 см, и если бы на рыночной площади Руана всё же сжигали кого-то (не) похожего на неё, подменить и скрыть подмену личность было бы много проще… Что всё это происходило полтысячелетия назад, не имело значения.
«Рост» моей души (на вырост моего чувства) не позволял честно ответить на вопрос: мог бы я почувствовать, что аутодафе совершают не над «настоящей» Жанной.
Я уже почти догадывался, что у меня будет шанс спросить об этом от оче-видца со-бытий; точно так же – я почти догадывался, что шансом развенчать прекрасный миф я не воспользуюсь.
И тогда – сошлись параллели и меридианы (не) заданных вопросов.
И мне был дан (сначала) – Голос.
Потом – тело, его из себя исторгшее. Но – всё (почти всё) по порядку.
Я вышел из здания. Вид здания мне не нравился: нечто бухгалтерское при каком-нибудь «отопительном» (прямо-таки предчувствие неизбежного путешествия в ад Мира Искусств) учреждении, расположенном во дворе.
Такие вот учреждения тоже подвергались чистке госаппарата? О Господи!
Так где же мой шанс спросить? И был мне ответ на не заданный вопрос (вопросом на вопрос):
– У Мироздания не спросишь, ты сам его часть; спроси себя: подверг бы ты вивисекции репрессий этот новодел Грибоедова?
– Зачем?
– А чтобы вычленить из общей массы «совслужащих» писателей золотое зерно.
– Ни в коем случае! Кто я такой, чтобы быть мерой «всех вещей»?
– Слава Господу, что я родился и умер (был казнён) задолго до вашего Ренессанса, где человека сочли мерой Богу, – сказал Голос.
Я даже не заледенел, осознав, что галлюцинирую.
После того, как я не смог объяснить о репрессиях людям, которые были по времени гораздо ближе к репрессиям, нежели я, мне стало как-то не по себе: я стал – не «по себе», а «по ним»; поэтому я тряхнул головой, и всё.
Далее – следовало пройти сквозь арку с затворёнными воротами (калитка всегда открыта) и выйти на улицу.
– А ведь ты уже предъявлял претензию писателям, – напомнило мне мироздание.
Я промолчал, ибо – помнил.
А совесть так просто болела,Как ушибленная, но уже после ушиба.Стала совесть как вздыбленная,Когда на петровской дыбе…Это я повстречал двух бездарей.Когда бы просто она онемела,И я бы мерил людей невыносимой пользой,Просеивая её как просо…А я с виноградной лозой,С янтарной её прозой.Когда бы я из глухарей,То я их (толкующих) просто бы поимел,То есть оставил в виду их рублей…А себя оставил тоскующим.Но я понял, что бездарей надо строить.Если мы желаем построитьИз бездарных кирпичиков нечто волшебное,То даже из бездарей следует брать их ущербноеИ превращать в дивный град!Это я на петровской дыбе,То есть начал с себя три столетия назад.(Niko Bizin)– Начал с себя триста лет назад? Я проделал это раньше! – сказало мне нечто.
И вот здесь все частичные овеществления души, посредством которых невидимые силы бесплотные со-общаются с миром материи, дали о себе знать – вполне молниеподобно: прямо перед дверью в новодел я увидел вперившего в меня пронзительные голубые (чёрные, карие или – даже несколько фасеточные) глаза высокого мужчины с неприятной синей бородой.
Сквозь эту синюю густую бороду легко проступало гладковыбритое лицо нездешнего аристократа; мужчина был в странном «средневековом» (богатом: чёрный бархат, серебряное шитьё) одеянии…
Итак, я (всего лишь) увидел стоявшего прямо перед аркой и тем самым заступившего мне путь человека в нездешнем костюме.
– Так вот кто таскал мои плюшки? – мог бы я повторить фразу фрекен Бок из советского мультфильма.
Разумеется, я мог бы совершить ещё какое-нибудь нелепое «телодвижение» мысли.
Я мог бы подумать о банально заблудившимся реконструкторе (даже и в голову не пришло): говорившее со мной «нечто», даже будучи овеществлённым и достаточно (внешне) нелепо одетым, внутренне ощущалось весьма гармоничным, согласным со всеми предшествующими встрече у новодела недоговорённостями.
Раз уж я там не-договаривал, следовало продолжать и здесь.
– Не надо недоговаривать, – сказал мне странно одетый человек. – Я здесь как раз затем, что и сам не договорил – там и тогда, у себя.
Я попробовал в него вглядеться… Не глазами, а душой.
Душа – не отозвалась, давая понять телу и рассудку (фразою из Вокзала для двоих): сама, сама, сама!
Новоовеществлённый субъект явно имел доступ ко всем моим аллюзиям.
И вот здесь-то я начал осознавать, что средоточие на ком-либо Невидимых Сил Бесплотных достаточно распространено (понимай: доступно каждому), но – каждый получает его даже не по силам или вере, а лишь – следует он провиденциальности или нет; согласитесь, моё желание постичь явление такого (ставшего приложением сил) человека – суетное мудрствование.
Мало – знать это.
Мало – это чувствовать.
Мало – даже пережить (и остаться живым); но – всё это вместе: это очень много – и хорошо, если я такого откровения не помещу в себе… Казалось бы, что ещё возможно увидеть (душой) на фоне новодела…
Ничего – кроме овеществления ожидаемого, даже при наличии уверенности в невидимом!
Это как с Плотью и Кровью, опошленных до вина и мертвечины; точно так и с осуществлением ожидаемого: мы всегда получаем не совсем то, к чему стремились.
И я опять посмотрел на бритого человека с роскошной синей бородой.
Далее: я не мог знать этого человека лично (а меж тем его прозвище слышали все) – и на грани моего само-мнения уже замаячило некое прозрение…
Да и молниеподобное мгновение никуда не уходило (не иссякало, не просыпалось песчинками – сон длился и длился): как-то так получилось, что мановением ока я вспомнил его имя и фамилию!
Звали его Жиль де Рэ, маршал Фанции, бывший видный сподвижник Орлеанской Девы; я к тому же ещё и «вспомнил» (будто наяву при этом присутствовал), что якобы он когда-то на свои деньги собрал отряд наёмников и двинулся к Руану освобождать Жанну.
Что будто бы уже на подходе к городу увидел дым от костра.
Так он опоздал, но (следуя продолжению мифа) – не смирился.
Впрочем, это всего лишь одна из версий реально и ирреально происшедшего тогда (и продолженного – сейчас); а ведь существуют ещё несколько – помимо того, что было на самом деле.
Он стоял передо мной, высокий сине-черно-кареглазый (не)синебородый человек с узким красивым лицом. Одет он был странно для нашего санкт-ленинградского ноября, но доспехов (по счастью) на нём не было.
– Синяя Борода? – сказал я.
– Да, – сказал злодей и герой.
Я знал одну из версий этой реальной (то есть страшной) сказки: былой сподвижник Девы, будучи чрезвычайно богатым, знатным и влиятельным человеком, стал реально сходить с ума (в долину, где растут деревья смысла) и восставать против той псевдо-реальности, в которой Деву, перед которой преклонялся, пошло и подло сожгли.
Я спросил:
– Зачем вам борода? В вашей реальности её у вас не было.
– А чтобы мы с вами обошлись без долгих представлений.
Я кивнул.
Он улыбнулся.
Я вспомнил: ходили слухи, Жиль де Рэ (как профан) пробовал заниматься магией. В чём, собственно, его и обвиняли; отсюда и страшная сказка о нём, отсюда его всемирная слава (хотя – не такая всемирная, как у прокуратора Иудеи).
Я улыбнулся в ответ: очевидно, его профанации и мои «мысленные» эксперименты-«вивисекции» (и над «телом реальности», и над телами различных мифов) – они просто-напросто сталкивали нас на этих пересечениях плоских овеществлений.
Сталкивали (аж до кремниевого искрения) – сейчас и здесь.
И тогда злодей и герой (сейчас и здесь) – отвечая, поднёс руку к подбородку и словно бы ластиком стёр с него растительность; зачем?
Пустое телодвижение.
Бороды – всё равно не было, одна мифическая видимость.
– А чтобы осталось красивое умное лицо с решительным на нём выражением, – сказал Жиль де Рэ, словно бы процитировав Хармса: отправляю тебе мой портрет, чтобы ты всегда имел перед собой это умное лицо. (цитата по памяти)
Далее он продолжил:
– Вы правы, – сказал он. – Наши интересы совпали. Если Жанну сожгли, я хочу (хотел, буду хотеть) её воскресить.
Я опять улыбнулся. Известное дело: по одной из версий Жиль де Рэ и занялся чёрной магией с человеческими жертвоприношениями, чтобы воскресить свой кумир.
– Если её не сжигали, я хочу разочароваться в своей наивной вере в чудо и предназначение, – мог бы подумать (я ему не навязываю мыслей) Синяя Борода.
Я опять кивнул.
В нашем времени – всё так же: желая войти в одну и ту же реку времени дважды, мы вызываем тени прошлого и пробуем одеть во плоть и вдохнуть в это «одеяние» прежнюю душу.
Я посмотрел на новоявленного со-ратника.
Полное имя его Жиль де Монморанси-Лаваль, барон де Рэ, граф де Бриенн.
Блестящий аристократ, один из самых богатых и знатных дворян своей страны, пэр Франции. Разумеется, он никогда не красил бороду в синий цвет. Более того, предполагают, что у него вообще не было бороды: «синебородыми» в то время называли мужчин, выбритых «до синевы».
Здесь – как и в случае с учителем черчения (по фамилии Бенуа), обучавшем профанов (ранне-советских школьников) проводить на белом листе человеческой души параллели и меридианы Мира Искусств и учиться верить в создание нового человека и победу нового строя.
Не удивительно, что профан чернокнижия и (по совместительству) бывший герой и сподвижник святой Жанны из Домреми пришёл к почти такому же решению: воскрешению из (мифического) пепла Орлеанской Девы.
Истинная в своём невежестве человеческая гордыня: вера во всемогущество человеческого (Мира Искусств) чернокнижия… Но не будем отвлекаться! Не станем смотреть на магико-мистические истоки искусства: попытку задобрить-принудить-обмануть и приложить-таки к чему-либо конкретному невидимые силы бесплотные.