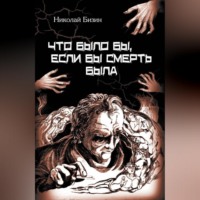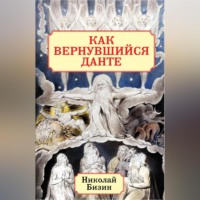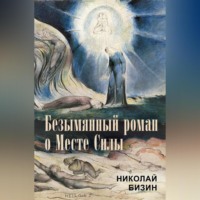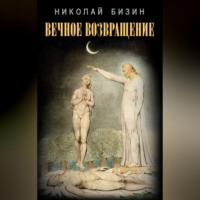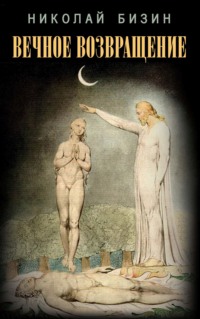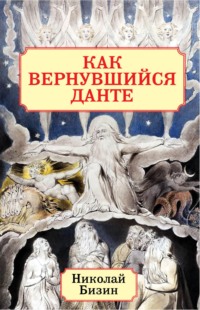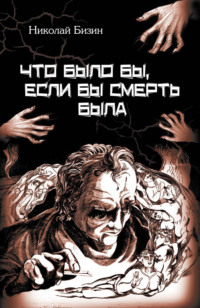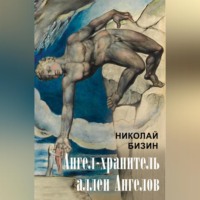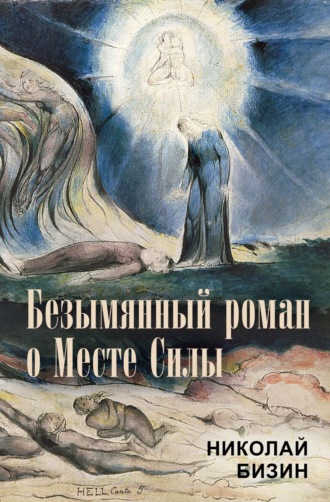
Полная версия
Безымянный роман о Месте Силы


Николай Бизин
Безымянный роман о Месте Силы
памяти моей мамы, новопреставленной хрущёвской комсомолочки Бизиной Александры Николаевны (08.01.2025)
© Бизин Н. И., 2025
© ООО «Издательство Родина», 2025
Страшная сказка о репрессиях
первая часть безымянного романа
мы не формулируем смысла существования нашей родины, зато мгновенно узнаём имя подлинного его носителя
а ещё: сутью этой истории является проблема эсхатологическая; недавний мир – закончился, и (почти) никто не знает, что теперь нам (в нашем будущим) делать.
но у нас (у России) есть некоторое преимущество – мы свой Апокалипсис уже пережили в девяностые, и дальнейший проект внешней реальности у нас есть:
Общее выше частного.
Справедливость выше закона.
Власть выше собственности.
Служение выше владения.
Духовное выше материального.
(законы Великой Степи)История – это правда, которая становится ложью. Миф – это ложь, которая становится правдой.
(Жан Кокто)По пальцам пересчитать, сколько раз моё личное и недалёкое (во всех смыслах) будущее уже сталкивалось с полной невозможностью прежнего себя (отсутствием прошлого меня – у меня настоящего); а вот с моей родиной подобная ситуация повторялась и повторялась в бес-смертном многомерии Вселенной… Всех пальцев (у всего моего человечества) не хватит перечислить.
Так и у нас (здесь и сейчас) было – и несколько раз на протяжении каких-то ста лет, и бессчётно в глубинах веков.
Так и будет (как ни крути плоский наш глобус) – если эта рас-сказанная мной частная история не поможет некоторому образованию особого склада духови’денияв наших умов, ведь она – не просто о роли личности как точки приложения определяющих сил во всеобщей истории, а ещё и о законо-мерности появления такой много-безмерной личности.
О неизбежности нашей Победы.
И да – она ещё и о том, как такой личности (осознав свою роль) – продолжать и дальше жить в мире с собою во всех окруживших её метафизических переменах: и социума, и даже своего частного физического со-стояния (и пред-стояния – перед Предназначением).
И нет – не скрою: это опять и раз-мышления о Верховных Главнокомандующих, и много-мышения о конкретных Сталине и Путине – как недавнем и нынешнем средоточии необратимых велений Вселенной: спасти Мироздание посредством спасения России; и потому – вовсе не случайны в эпиграфе Законы Великой Степи!
И ещё нет (это надо освоить наново) – мы (в любом из видимых и невидимых миров) всё та же Орда Темуджина, сотрясателя всех (наших) Вселенных; но… Мы ещё и бесконечно развращены нашим Миром Искусств, самой нашей необоримой похотью к якобы бесчисленным версификациям реальности.
Так что история это – и обо мне (и о ещё нескольких версификациях меня): о таком исчезающе маленьком человеке, лишь немного прикоснувшемся к веяниям не менее маленькой Вселенной: согласитесь: и я, и вся эта Вселенная – в сравнении с самим Провидением лишь пылинки…
И это само-очевидно и мне, и даже Вселенной (производной от слова «вселить»).
Так что и я готов поселить себя в моём будущем.
В этой истории начало моего (уже скорого) будущего, как это ни странно, зародилось в чужом и довольно далёком прошлом некоей погибавшей (как недавняя Россия) страны – которую тоже спасло чудо: явление почти нездешней личности, ставшей несомненной точкой приложения невидимых сил бесплотных.
Той страны (как и нас в девяностые) практически (и даже теоретически) уже не было.
Пока что эта страна называлась Францией. Скорей всего, её как-нибудь потом новые владетели обязательно переименовали бы (поудобнее для себя)… И тут явилась Орлеанская Дева.
Некоторые историки утверждают сейчас, что Жанна, в общем-то, была всего лишь символом, и чуть ли не игрушкой в руках «настоящих» полководцев. Разумеется, никто не утверждает, что Жанна д'Арк была реинкарнацией Юлия Цезаря или Александра Македонского.
Дело – в силе личности. Марк Твен вполне справедливо писал в исторически достоверном романе «Личные воспоминания о Жанне д’Арк Сьера Луи де Конта»:
«Богом она послана или нет, но в ней есть нечто такое, что возвышает её над воинами, над всеми воинами Франции, что воодушевляет их на подвиги, превращает сборище трусов в армию храбрецов, и они обретают в её присутствии бесстрашие».
«Она была велика своим умением открывать способности и таланты, где бы они ни таились; велика своим чудесным даром говорить убедительно и красноречиво; непревзойденно велика умением воспламенять сердца разуверившихся, вселять в них надежду и страсть; умением превращать трусов в героев, толпы лентяев и дезертиров в батальоны храбрецов».
(Луи де Конт – земляк и сподвижник Жанны д’Арк, свидетель на Процессе ее реабилитации в Париже в 1455 г., его показания под присягой, занесены в протокол и, наряду с другими документами той эпохи, используются историками в качестве первоисточника.) – не правда ли, описание её личности очень сродни описаниям наших Верховных.
Казалось бы, эта чудесная и страшная история случилась и далеко, и довольно давно.
Казалось бы, что нам с вами эта девственница Жанна из деревушки Домреми – всего лишь далёкая сказка; ан нет! Не только сказочность тех (однако же – вполне задокументированных) со-Бытий привлекает наше сознание (а так же под-инад-сознания), а ещё и возвращает к простому пониманию:
Наша Победа – уже предопределена подобным же чудом, но и самим нам потрудиться (много раз погибать и много раз спасаться от погибели) очень даже придётся… Поэтому – никакой «милой Франции» в моей истории; ведь опять и опять – речь о нас, никогда не бывавших невинными…
Насчёт «милой» Франции – успокою сразу.
Успокою – и не устану повторять: мы всё (в каком-то из невидимых и совершенных миров) – всё та же Орда Темуджина, сотрясателя всех (наших) Вселенных… Зачем же нам, идущим к своему последнему морю (и последнему миру), эта сказка о «милой» Франции, если границы России не кончаются нигде?
Сама по себе – незачем.
И всё же и наша (и всеобщая) Святая Русь – сейчас и здесь… Но и там – вместе с Жанной д’Арк (не) восходит на костёр на рыночной площади Руана и (не) сгорает… А ещё и ещё (и никогда, и всегда) – некий её сподвижник едва (не) успевает её спасти…
Поэтому (я буду) – обо всём и во всём понемногу (в меру моего внутреннего мира: а это Санкт-Ленинград); и хотя мы и бесконечно (повторю) развращены нашим Миром Искусств, но само по себе стремление выйти из своей личной преисподней посредством некоей её же чистоты – это присуще каждому человеку на этом Свете.
На на первый взгляд виртуальный Мир Искусств – это наш реальный земной ад
На второй взгляд – сразу вопрос: и какое всё это имеет отношение к помянутой в одном из эпиграфов истовой католической святой Жанне Деве?
Никакого, казалось бы, но – это жизненно важный вопрос: как именно человек становится проводником Божьей воли (и что тогда происходит с этим «козлом отпущения»); никакого, казалось бы – если только «такая» святость как раз и является предметом рассмотрения в данном тексте.
История Жанны из Домреми тем и хороша, что документально прослеживается, и мне легко ссылаться на общеизвестные (и не очень известные) факты.
Поэтому – я попробую описать не сами биографии Верховных (как и той же Орлеанской Девы), а именно предпосылки становления такого смертного царя «не-бесного» – и «козла отпущения», и почти что вселенских масштабов демиурга.
Попробую показать хоть намёком, как именно человек становится центром пересечения неведомых сил.
Так же попробую описать то, что существует в человеке – помимо его биографии: некую неотвратимую направляющую воля, преобразующую повседневные смертные помыслы в нечто совсем иных масштабов.
А так – известно: мы (реальные) – почти ничего не понимаем ни в мифах о Деве или Сталине, ни о законах той (почти сказочной) евразийской Орды Чингисхана (монг. Чингис хаан,

Ничего не понимаем о её культуре и образовании, воспринятых у единственной свехдержавы того времени – Китая; ничего не понимаем о её беспощадно справедливых законах и безопасных торговых путях от «первого» и до «последнего» моря… По которым нетронутой могла путешествовать обнажённая девственница с мешком золота!
А вот ту же Жанну Деву в «милой Франции» – сожгли.
Или – якобы сожгли: это ещё одна страшная сказка о репрессиях; итак – мы ничего не понимаем о своём настоящем будущем.
Вот я и пытаюсь его понять,
А пока что мы самонадеянно говорим, что оплачено это «прошлое» величие (якобы не имеющее отношения к будущему) миллионами жизней; ещё более самонадеянно мы думаем об этих миллионах: а оно того стоило?
Забывая, что иначе нас просто бы не было даже физически. А потом убеждаем себя, что такое величие – это слишком страшные сказки!
Забывая, что и сами делаем сказку – былью: мы всё ещё живы!
Но кто бы знал или попытался поверить, что (не кто-то ещё) – мы с вами, читатель, даже только выслушивая эти истории на ночь (очень похоже – на Тысячу и одну ночь), уже со-решаем (тему-джиново со-трясаем-версифицируем) судьбы моего (и вашего, конечно же) человечества!
Кто бы знал, как это со-звучно с со-признанием: «со-грешаем»!
Но кто из нас без греха?
Кто бы знал, что даже и праведник – в белые одежды облекшись (это как с хорошо выстиранным бельём «тела души’» – после того, как снята будет Пятая печать) и до само’й «души души» высушивая ветхо-и-новозаветные притчи о «козлах отпущения» и о полученном за их счёт всепрощении, прилагает их смыслы не только к своему пониманию происшедшего…
И происходящего…
И ещё только должного произойти…
Так и происходит своекорыстная версификация мировой истории (т. н. репрессии): она безысходна, хотя и ветвиста – именно как сказки Тысячи и одной ночи… До тех самых пор, пока все мы (святые и грешные) – не приходим к простому выходу из этой «запертой комнаты» Тысячи и одной ночей: всё к лучшему в этом лучшем из миров.
И это смертельная ошибка: к подобному выводу следует подходить бес-корыстно.
И что нет в этом (здесь и сейчас!) – никакого выбора: вся земная история – о вивисекции по живому, о репрессиях по отношению друг к другу; и что если (эта чаша не минует нас!) – вам бы предложили стать комендантом Освенцима (а в нашей сказке это более чем возможно), и вам (милый мой) – никак нельзя было бы отказываться.
Вдруг удастся сделать так, что вместо четырёх миллионов погибнут «лишь» два?
(по мотивам высказываний экономиста Михаила Хазина)
Это – не только со-временность.
Это – даже не прошлое или будущее, а настоящее будущее.
Хотя и имеет непосредственное отношение не только к конкретному веществу т. н. «сталинских» репрессий (тоже вивисекций по живому) – и к не-желанию их тему-джиново (и здесь опять всплывает книга Тысячи и одной ночи) повторить в масштабах всего человечества…
А ведь в том или ином виде (бес-кровном или кровавом) – придётся: это не только современность, но и все времена вообще!
Не только прошлые, настоящие и будущие, а ещё и объёмно продолженные (как в английском правописании; «Оскар Уайльд как-то сказал: «I am so clever that sometimes I don’t understand a single word of what I am saying». – «Я такой умный, что иногда я не понимаю ни единого слова из того, что я говорю». В этой насмешливой фразе Уайльд использовал Present Continuous Tense – настоящее длительное время. Present Continuous является одним из самых часто используемых времен в английском языке, а в русском языке аналогов ему нет. Именно поэтому его изучению и пониманию необходимо уделить пристальное внимание. (Сеть)
Present переводится как «настоящее» и говорит нам о том, что действие совершается в данный момент. Continuous переводится как «длительное/продолжительное» и говорит о том, что действие началось какое-то время назад и еще длится.
Для невидимых сил бесплотных «длительное/продолжительное» (прошлое, настоящее, будущее и даже никогдашнее) – это в самый раз: именно что проявление невидимых сил бесплотных, во «смертной» пло’ти нам явленных.
Только так тонкий мир явлен в мире материальном: от незримого ко зримому.
Так всё и началось: незримым соприкосновением.
Это было вступление, и оно затянулось (с самого Певого дня Творения) – не став со-Творением.
А теперь – пояснение:
Произошла эта история (очень тонко) – сначала вербально, потом ментально. Продолжилось всё (очень звонко) – в мире явленном и материальном.
Записанном в книге (земной) Жизни – в одной из своих ипостасей известной как сказки Тысячи и одной ночи… Которые есть не что иное как репрессии (вивисекция) по отношению к достаточно однообразной, но бесконечно повторяющейся и даже ветвящейся реальность: произошло – сразу всё.
А заодно (уже и после, и даже до, и во время продолжения) – произошло-происходило ещё и «длительно/продолжено»: форма сказки предполагает внешнюю лёгкость бытия (которое быт), всеобщности со-Бытия(й) (которые – ещё более легки: их души-ауры-нимбы вообще почти неощутимы); а всё вместе, как русская народная сказка о курочке, снесшей деду и бабке золотом яйце, имеет масштаб вселенский…
Зачем нам золотая (мёртвая) Вселенная?
Теперь курочка снесёт яичко не золотое, а простое. Это и страшно – в «страшной сказке о репрессиях»: масштаб Вселенной – и человек (и червь, и Царь, и Бог).
И всё определяется жизнью живою.
Итак, репрессии начались – как (не)страшная сказка о них: в нынешнем (тогдашнем) зимнем Санкт-Ленинграде 2023 года, когда только-только наметилась наша победа на полях СВО – где нам противостал весь т. н. «цивилизованный» мир потомственных расистов и «людоедов», именно тогда нам стало всё (о себе) ясно.
Репрессии начались – с осознания неизбежности нашей Победы.
Альтернативой – превращение человечества в сообщество насекомых, руководимое развращенной донельзя «разумной» элитой; и в этот волшебный миг предчувствия нашей неизбежной Победы мне вдруг достаточно штампованно напомнили о т. н. репрессиях двадцатых и тридцатых годов.
Напоминание произошло – в здании, имевшем формальное отношение к искусствам.
Здание это было аналогом сгоревшего московского Грибоедава, расположенном не в Москве, а на улице Звенигородской дом 22 города Санкт-Ленинграда; в дальнейшем/продолженном я буду называть это здание новоделом Грибоедова; почему именно его?
А вот поэтому – примечание (о место-рас-положении):
Поскольку в девяностые годы (точной даты не помню) расположенный неподалёку от Большого дома на Лиговском проспекте и рядом с набережной Невы прежний санкт-ленинградский Грибоедов (так же как и его книжно-булгаковский прототип) сгорел, его нынешний Санкт-Ленинградский аналог и физически, и даже метафизически являлся новоделом.
Ведь и весь мир, известным образом, является новоделом – в репрессивном Мире Искусств; откуда пришла именно эта аналогия, сейчас мной будет показано.
В небольшой комнате на втором этаже этого новодела собрались четыре-пять человек; люди эти какое-то время уже со-беседовали (я запоздал к началу, попав сразу «с корабля на бал»).
Речь шла о судьбе одного из массы (тогда – почти сто лет назад) «репрессированных».
Подспудно (изначально – и от века, и от невидимых сил бесплотных) я знал, что при внешнем сходстве «тогдашних» судеб – у каждой из них своё глубоко личное содержание (это как с прижизненными реинкарнациями); не менее подспудно (изначально – от века, и от невидимых сил бесплотных) я знал и о взаимной связи происходящего и происшедшего, и должного произойти.
Это едва уловимые тонкие ощущения (нити со-знания).
Такие же, как и неощутимая метафизика глобальных процессов Вечной Вселенной (от слова «вселить»), что реализует себя в наших вполне плотских мимолётных и хрупких телах и (иногда) чуть более протяжённых делах.
Казалось бы – речь шла о делах (и телах) более чем «дальние», чуть ли не на сотню лет «оторванных» от «современных» людей… Но – здесь мы вспоминаем эпиграф от Жана Кокто и понимаем (не перефразируя Томаса Манна): наш удел – это люди.
Наши ближние дела – «с людьми».
Ведь «дальних» дел (и даже со-грешающих их тел) – у нас нет: все мы кажемся близки и кра’тки.
Зато у нас есть наши вечные «ближние» дела – с разбросанными по пространством и временам телами людей (тех самых – т. н. людей Книги, по определению пророка Мухамеда,

Что своими «делами тел» пробуют повлиять на внутренние дела наших душ.
Что сакрально взаимопроникают в нас своими множественными душами (взаимоопределимся: при неизбежных прижизненных реинкарнациях мы «меняем» души, а не тела).
Я не сказал, что эти дела – давние: взаимоопределимся – времени нет вообще.
И это одна из сложностей при попытке «потрудиться душой»: все со-Бытия’, где бы и когда бы они не материализовывались, в душе происходят – у Бога; то есть – даже не сей-час, а в настоящем.
Итак – сначала мы слышим (душой) внутренне «несовместимое» (на деле – более чем обоснованное) имя: Санкт-Ленинград.
Далее – от своего начала мы знаем (душой): для самоопределения – это всегда лучшее место и время на земле; где вы, грани моего понимания?
Далее того (больнее того) – теперь мы попробуем взаимо-обособиться: каждый из нас проживает в наивозможно лучшем для себя со-бытии (не только с ближними, но и с собственными душами).
Это как с историей о коменданте Освенцима: вводные таковы, что любая попытка их изменить приведёт к более неприемлемому результату, нежели есть сейчас… Всё к лучшему в этом лучшем из миров, даже если этот мир почти невыносим; да здравствует это «почти»!
Именно ты – почитай эту жизнь.
Мужайтесь, будет хуже – не дальше (помните: дальше, дальше, дальше – и ведь правда сказана в этой пьесе Шатрова), а если друг как-то иначе – с самыми благими намерениями можно вообще лишиться «настоящего/продолженного» времени.
Можно остаться лишь в плоскости.
Лишь по силе и полноте понимания этого факта (не просто рассудком, но – сейчашной душой человека) и определяет тело человека, – какая душа в нём сей-час обитает; для невидимых сил бесплотных (к которым человеческие души уже не вполне относятся) – только так и можно ощутить этот плотский мир.
Для простоты – назовём это ощущение Искусством.
Для простоты – ощутим его пустотой (жадной быть наполненной чем угодно).
Потому – в этой истории, где я попробую ощущать мир моими «различными» душами, будем называть весь этот мир – Миром Искусств… И ведь нет ничего случайного в этом Мире Искусств (всё – создано) – это оказалось со-звучно и дальнейшему происхождению смыслов, и дальнейшим «действующим лицам».
Действующее лицо – лицо, активно себя проявляющее в Мире Искусств.
Лицо – налагающее свой отпечаток (пусть даже как посмертную маску) на окружающую его действительность; главное – запомним: через каждое «действующее лицо» проявляет себя сиюминутная душа.
Не мудрствуя – не более неизбежного мне (от недостатка прозрения) мудрствования, я обратился к «доступной» мне внешности со-бытий, происходившей прямо на «моих глазах»; прямо-таки виделось, как по глазному яблоку ползут отражения происходящего.
Не только сейчашные (как песчинка часов) – но и «всегдашние».
Эти отражения-песчинки словно бы гласят: «Не в теле красота, но красота тела зависит от того образования и цвета, который отпечатлевает душа в существе его.» (святитель Иоанн Златоуст)
Приглядимся к ним поближе.
Так мы и вернулись (из тонкого мира) – «поближе».
То есть (для начала) – в произносимые слова. В переменчивые, как текучая вода, человеческие души; потом – во внешность, оттолкнувшись от её содержания: здесь (как и с прижизненными реинкарнациями) происходит круговорот.
Только не вверх (ада) и вниз (рая), а во множестве измерений (того и другого).
Сейчас – когда история эта давно же произошла, и когда ныне у всех на глазах государство Израиль (всей силой своей преисподней) нацелилось на «холокост» палестинцев – чем фарисейски лихо обесценило свой «личный» монетизированный холокост, многие слова (души, внешность, содержание), что прежде никак не совмещались, оказалось возможным представить рядом.
Например, святость и репрессии.
Или, что далеко ходить, сам термин Санкт-Ленинград.
Хотя имя Санкт-Ленинград – кажется мне изначальным: есть в нём что-то вселенское, от Царства Божьего СССР, и где даже Ленин со Сталиным помазаны на это Царство; казалось бы, всё это мудрствования (по началу) и прозрение (по сле многой печали).
Но и это всего лишь дела нынешние (уже почти вчерашние).
Повторю: в небольшой комнате на втором этаже этого новодела собрались четыре-пять человек; люди эти какое-то время уже со-беседовали (я запоздал к началу, попав сразу «с корабля на бал»).
Речь шла о судьбе одного из массы (тогда – почти сто лет назад) «репрессированных». И естественным образом всеми этими людьми репрессии воспринимались как абсолютное зло; мне не было странно, что в новоделе Мира Искусств (одном из его филиалов – Доме Писателей) не было понимания того, что само пребывание в Мире Искусств и есть репрессия…
Которая (неизбежно, но всегда неожиданно) – сама себя порождает…
Итак, собрание людей и раз-говор о репрессиях: вэтой комнате на втором именно этого этаже новодела разговор (по крайней мере, его мною услышанное начало) был посвящен некоему прискорбному факту из начала тридцатых годов прошлого века; говорил об этом и рассказывал искренний и (на взгляд в проброс – с серовато-лазурной аурой) неброский пожилой человек.
Итак, вот они – два проброса, и раз-говор – становится два или три гово’ром.
Напомню, начала раз-говора я не застал, и мне пришлось сразу перейти к дальнейшему (за началом), но – даже перейдя (от одной к другой ипостаси со-бытия) я и предположить не мог, что банальнейшая в недавнем прошлом тема репрессий (ах, затронули невиновных – и это почти правда) приведёт к реальному овеществлению (явлению во плоти) некоего сказочного злодея…
Который реально был настоящим героем и даже в чём-то подвижником…
Но сначала о невинно пострадавших.
Когда я вошёл, звучало:
– Представляете, его подвергли плановой «чистке совслужащих» госаппарата в Саратове в тридцать третьем что ли году («всего лишь» – уволили с запретом занимать руководящие должности сроком на пять лет), но – тогда он остался жив.
– И что?
Я слушал. Более того, я услышал это «что ли», а так же это «что», но – меня не покоробило.
– Потом он устроился в Санкт-Ленинграде в НИИ Растениеводства (кажется, так это называлось, но не ручаюсь за точность), проработал несколько лет…
Я сидел на этом со-брании – брани в невидимом – весьма пожилых (и имеющих «отношения» с искусством) людей и… Всё ещё очень невнимательно слушал эту обыкновенную историю.
В моё оправдание скажу: в этот момент Жанна из Домреми ещё не попросилась со-участвовать (параллельно со мной) – в происходящем, и не намерилась со-переживать (что не одно и то же) – происходящее, или даже(!) – воскресать из пепла костра на площади Старого рынка в Руане.
Здесь, как и со «сталинскими» репрессиями, было много не только загадочного и волшебного, но и непередаваемо мерзкого.
Происходящего – не только из падшей природы людей, но ещё и напрямую зависящей от небесной непогоды и земной обстановки.
Хотя (даже) – и в системе ГУЛАГа было много аллюзий с различными толкованиями природы человека; хотя (даже) – и в Святейшем трибунале (инквизиции) было много настоящей чистоты (например, впервые в истории именно там у обвиняемого появился – не помню, как тогда назывался – «адвокат»-защитник).
Вообще – и со смертями, и с воскресениями – на всём протяжении истории человечества было много разных историй; на деле – это всё частности, и со всей Благовестием Воскресения Иисуса (выхода Его из преисподней) их не сравнить.
Здесь ведь – человеческое.
Здесь (верь) – всё просто: сделай возможное (и оставь возможное в покое), невозможное сделает Бог (и тоже оставит в покое).
Но продолжу!
Тем более что пожилой рассказчик о судьбе репрессированного подошёл (для меня) к кульминации своего проекта… Сам вполне мог не обратить на эту кульминацию внимания: это вещь более чем тонкая.