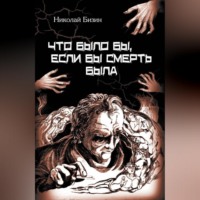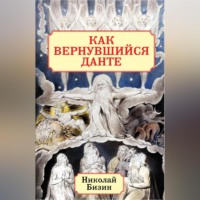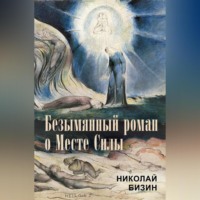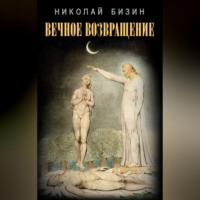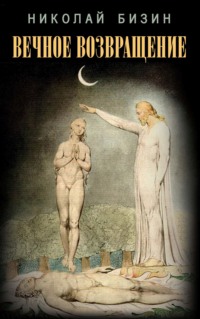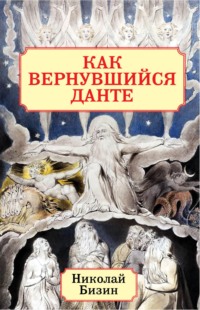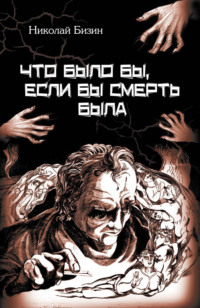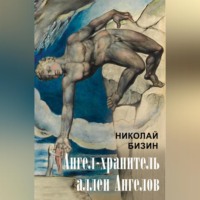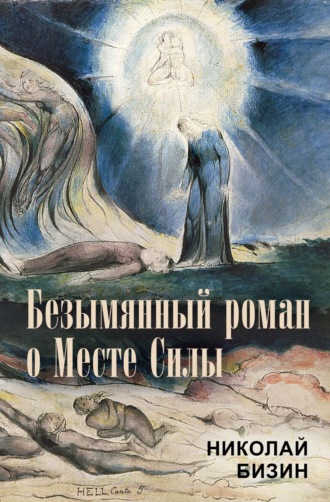
Полная версия
Безымянный роман о Месте Силы
А кульминация произошла почти незаметно.
Прозвучало:
– Примечательно, что его сыну в санкт-ленинградской школе преподавал черчение человек по фамилии Бенуа (имени не помню); да-да, один из тех Бенуа (родственник создателя Мира Искусств)!
Показалось, что была снята одна из Печатей (быть может, Пятая); но (повторю) – эта кульминация (не) только для меня… Эта точка переворота плоскости бытия и есть причина моих воспоминаний о том раз-говоре, сами понимаете.
– А судьба подвергшегося чистке? – спросил кто-то (может, даже я). – Наверняка история имела продолжение.
Это(!) – выглядело оче-видным.
Это(!) – только в нашем Мире Искусств история имеет начало, продолжение и конец; жизнь не заканчивается Миром Искусств.
Имени «вычищенного» из аппарата в Саратове, но – тогда уцелевшего (дабы ему удалось поработать ещё и в растениеводстве), я не запомнил, а надо-бы (уже для надо-лбов моего само-определения): человек либо больше своего имени, либо меньше.
Если, конечно, сам человек – не тот самый святой, именем которого его «назвали».
Я, к примеру, долгие годы был влюблён и вожделел к некоей несравненной женщине Жанне, в реальности вряд ли имевшей точки соприкосновения с мифом об Орлеанской Деве; хотя(!) – кто точно может судить?
Так я подумал.
Потом – продолжил измышлять реальности (с их кровью и потом): кто может знать, какова была бы Жанна Дева – вовсе даже не будь она «настоящей» Жанной Девой, а воплотилась бы «моей» Жанной…
Так я «растекался мыслью по древу» – и сам не заметил, как заигрался.
А ведь уже прозвучала неслышная нота.
В гамме она (нота) – пред-шествовала озвученной до; совсем немного (всего лишь – вся вечность) оставалось, чтобы (далее) – уже нота до переступила ноту си и стала нотой да.
Признаюсь: когда-то (но не теперь) я верил в её («моей» Жанны) провиденциальность; не думаю, что тот «я» слишком ошибался: для того моего минувшего «я» и даже крох иллюзорной провиденциальности хватало…
Я витал в «моей» любви. Крыльями моими была сама Вечность.
Я услышал:
– Сейчас расскажу, – имелась в виду судьба «зачищенного» (уже после «растительной» жизни в НИИ).
Но я (уже) – почти не слушал.
Я (уже) – подумал о Жанне (ещё не той, что «стала» святой).
– Тебе не совестно? – спросило меня моё «я».
– С «той» Жанной тоже был я, – ответило мне ещё одно моё «я». – Для того «я» имя Жанна значило больше, чем просто имя Жанна.
Я не поверил услышанному.
Более того, пренебрег известным «спросите у профессора, что такое шизофрения». И позволил ещё раз прозвучать вопросу, который (впрочем) – ни в каких моих раз-решениях не нуждался:
– Но судьба подвергшегося чистке? Или вас интересует лишь его пересечение безымянного человека с носителем славной фамилии?
– Да, только это, – признался рас-сказчик. – Таких судеб, как у «того человека», было «тогда» (а когда именно?) как песка сквозь пальцы.
Я опять не поверил услышанному. Во всём этом зарождался рас-два-три-и-далее-сказ (Тысячи и одной ночи)… Носитель звенящей фамилии, простой учитель черчения? Именно это (и никакой случайности) – открыло простор для понимания…
Чего именно?
А всего – и именно поимённо; здесь – нужды два-сказчик и три-сказчик: совсем как с неслышной нотой да.
Здесь – души со-Быти’й обретают свои очертания.
Прочертил ли (тогда) учитель черчения (в «созданном» его родственником Мире Искусств) необходимые параллели и меридианы очередного плоского птолемеева глобуса – для-ради того, чтобы все эти слова о чистках в сов. учреждениях стали исполнены некоего света, а не только полоскались застиранным бельём?
Вряд ли!
Нет у одного (слабого) человека такой власти, чтобы статистику несчастий обратить в благодать… Даже если он – носит фамилию Бенуа… Даже если он окажется учителем черчения силовых линий многомерия; всё равно – невозможно…
Но все же я – попробую.
– Того человека арестовали в тридцать седьмом. Родственники долгое время ничего не знали о его судьбе. Писали запросы в самые разные инстанции (что тогда было возможно), им приходили самые разные ответы, вплоть до извещений о смерти по самым разным причинам.
Говоривший помолчал. Добавил:
– Всё это были отписки.
Я знал: различные житейские функции (как и их человеческие персонификации) не злокозненны сами по себе, но – сам словно бы поток мелких со-быти’й склонен выбирать направление скорей к распаду (Хаосу), нежели упорядочиванию (Космосу).
В каждом отдельном случае имеет место быть всего лишь мелкая сделка с мимолетными обстоятельствами. Даже нежелание затратить на что-либо «личное» время – не более чем мелкая уступка сатане.
А казалось бы: ничего не определяющее не-деяние.
– Равви, возможно ли человекам спастись? – мог бы (своими словами) подумать я, чтобы (своими же словами) ответить: человекам невозможно. Но невозможное человекам возможно Богу.
Я сказал (не только собранию в новоделе Мира Искусств):
– Сталин до тридцать седьмого года (может, и подалее) не обладал всей полнотой власти; была серьёзная опасность для его жизни от т. н. «соратников»… И существовала (вместе с угрозой его жизни – а ведь на ней сошёлся клином Белый Свет Провидения) глобальная угроза погибели для моей Родины
Здесь меня могло бы кольнуть: ты (то есть нынешний «я») решаешь, на ком сошёлся клином Белый Свет; не много ли для тебя?
О чём спрашивать: непомерно много!
Но не вся Вселенная (вопросов и ответов) – это всегда на долю Верховного, и до смерти, и после… И почти что прозвучало (из моего предыдущего романа Ангел-хранитель аллеи Ангелов):
– Сама смерть вашего т. н. Верховного показательна: со-ратники не спешили к нему на помощь (а может, кое-кто и приложил руку к его вероятному убийству); толпы невинно убиенных им душ явились требовать от него ответа (см. картину Клодта Ивану Грозному являются призраки его жертв, название по памяти)…
Спорить мне было не интересно.
– Отчего так? – спросила меня недобрая пустота разложения, выглядывавшая из глазниц т. н. жертв наших Верховных Главнокомандующих.
– На все эти вопросы давно даны ответы. Не втягивайте меня (даже с лукавым я был бы на «вы»: иду на вы) в бесконечные споры с бесконечно версифицированной пропагандой; на это у меня нет времени: мчится за мной смерть, убегает от меня жизнь. (из Нравственных писем к Луцилию. Луций Анней Сенека, по памяти).
Больше я не обращал внимания на пустоту.
Зато(!) – возразил мне пожилой человек, помянувший о репрессиях по отношению к учителю черчения с фамилией Бенуа:
– Вы считаете, Сталин не несёт ответственности?
Я ответил мгновенно:
– Ответственность за всех нас он до сих пор несёт.
Меня(!) – не услышали.
Выглядело это так, будто я промолчал; и правильно (бы) сделал! Я не бог (именно с прописной – в подчёркнуто языческом понимании).
Но(!) – негаданно пожилой выступант продолжил совсем иначе:
– Можно было выбрать, какой из смертей (или всеми сразу) он погиб, но – его семья долго ещё верила, что его карма выведет одну из его прижизненных реинкарнаций в нынешний Санкт-Ленинград вполне овеществлённо.
Странные слова. Заумные, не для штампованных суждений.
Безумием было бы предположить, что за их произнесением стоит некое Предопределение не только дальнейших со-Быти’й, но и самого обсуждаемого сейчас прошлого моей родины…
Странные слова… Разумеется, всё это (внешне) прозвучало не так.
Это я (то есть – всего лишь одно из моих «я») позволил себе приблизить видимое происходящее – к его метафизической сути; разумеется, у меня (одного из моих «меня – возо-мня о себе») получился настоящий миф с героями, равными (предположим) царю Гильгамешу или той же Орлеанской Деве.
– Вы скажете, Верховный спас нашу родину, и этим всё оправдано: бес-счётные смерти, бес-счётное горе…
Так прозвучало, и я продолжил:
– А так же бес-счётное счастье…
Наша Победа стала не просто эпосом (мифом) – она стала всеми миром сразу (без неё мира бы не было); и здесь я восхитился этой простой мысли:
Миф, который реален – ибо он был.
И я продолжил (о мифах):
– «Я не скажу за царя Гильгамеша», – скажете. – а вот Жанна из Домреми – вполне реальный, а не мифический персонаж.
Но это как посмотреть.
Внешне и тот, и другая – это настоящие Герои, как и 300 спартанцев или 28 панфиловцев.
Ведь кто есть Герой?
Это никакой не бог (в понимании – языческий божик), но – именно Человек Последней Правды, своей жизнью выразивший её до конца. И эта Последняя Правда никогда не выглядит идеальной.
Последняя Правда – это как долг перед Родиной или Страх Божий (страх потерять Бога); большего – никому не дано: ни человекам, ни богам, ни героям.
Ничего не дано, кроме долга; и будь что будет.
Не бывать ни Царём, ни демиургом; ты просто человек долга, и на тебе тоже сошлись линии многомерия… И всё-таки я слишком «заострился» на этом масштабировании (это от учителя черчения Бенуа); но – что же такое на самом деле я сейчас слышу в разговоре этих весьма пожилых людей о давних репрессиях?
А вот что: долгое эхо долга.
Оно раздаётся в пространстве мечущихся человеческих корпускул.
Оно пробивается сквозь корпоративные (всегда мафиозно-фашистские по своей сути) интересы местного чиновничества. Сквозь благородство и подлость (и просто быт) человеческого неустроенного общежития.
Оно – раздаётся; но – не как подаяние.
Как со-звучие. Со-озвуча’ние имён. Таких, как Жанна из Домреми и «моя» Жанна: я и не заметил, как произнесённое имя (словно бы) – стало уплотняться и даже приготовилось вступить в раз-говор.
Может, я бы заметил и удивился два-говору или три-говору.
А ещё меня продолжает удивлять, как наш нынешний Верховный меняет парадигму движения моей родины – без подобной (помянутым в раз-говоре в новоделе Грибоедова) зачистки «отживших» кадров.
Все эти партийные чистки, все эти взаимные людоедства т. н. «правящего класса», все эти погибели «старых большевиков» (и тогдашних, и нынешних), доросших до уровня местных или столичных феодалов… Это и есть смена парадигм – «как она есть».
Так или иначе – она подразумевает смену мышления у людей (иногда – как тогда: вместе с людьми).
Любой класс «власть имущих» – существует только (для-ради) воспроизводства самоё себя. В этом нет «настоящего будущего» – существуют лишь версификации «прошлых будущих»; в случае с Россией это чревато окончательной погибелью.
Я смотрел на пожилых людей, собранных в новоделе и (даже не) мыслящих новоделами (прошлых штампов).
Одному – тому самому сухому педанту (лучезарно-серого спектра аура), было около (или чуть более) семидесяти. Двум другим былинкам-мужчинам – за восемьдесят; все(!) – ангельским обликом простовато-лучезарны, любяще-загробны (более чем очевидно: вот-вот)…
Очень хорошая компания.
Для-ради обсуждения невыразимого (и неподсудного).
Повторю оче-видное: именно за этим овеществлением мифа и важна мне Орлеанская Дева (названная так вовсе не за снятие осады с Орлеана), эта некая Жанна из Домреми (воспитанная в этой деревне), сожжённая на рыночной площади города Руана «ведьма» и «еретичка» д’Арк.
В предыдущей фразе всё верно (почти), кроме написания глагола «сожжённая» – его сразу надо было брать в скобки.
Потому я, слушая страшную сказку о сталинских репрессиях, вспомнил именно о Жанне… А не о том, что среди реабилитированных и выпущенных при Хрущёве были не только генетические изуверы-бандеровцы, изначально предавшие душу (вместе со всей своей греко-каталической ересью) лукавому, но и (к примеру) конкретная администрация детского дома, на протяжении долгих лет грабившая своих подопечных.
Толстый папик-директор (оттуда же) – принуждавший к сожительству несовершеннолетнюю… И бездны подобного.
Кто пожалеет троцкиста-нечаевца, выковывателя нового человека из человеческого материала посредством ссылки на Соловки – отзовись первым; но (все же) – давайте-ка обсудим этот глагол «сожжённая»
– Стоп! – сказал я себе. – Параллели и меридианы этого глобуса оче-видны: сейчас ты углубишься в мистическое Средневековье, вскроешь корни волшебной сказки о Жанне д’Арк, восхитишься прови’дением манипуляторов той ситуации (а так же намекнёшь на сложности внутрипартийной борьбы в ВКПБ в двадцатые-тридцатые годы) и отвлечёшься от конкретных судеб конкретных «маленьких» людей.
Стало – ослепительно тихо.
Тишина – ждала и дождалась.
– Да, – сказал другой «я». – Непременно отвлекусь от внешности происходящего.
– Не надо. Не делай этого, – сказало мне моё настоящее «я».
Ослепительная тишина – не прервалась…
Даже тогда, когда…
– Вы о чём-то своём думаете? – поинтересовался кто-то из моих со-беседником.
Я улыбнулся, молча извинившись. Не только перед ними.
Но – тишине не были слышны мои извинения.
Каждое горе очевидных тех репрессий (как вершина стеклянной горы из сказки) – персонифицировано, словно бы овеществлено.
Какое кому дело, что какой-нибудь Со-лженицын – со-лжёт, умножая число репрессированных в десятки раз. Тогда как количество заключённых в США в то же время было гораздо (или не гораздо – не тем меримся) больше, чем у нас.
Какое мне дело до того, где ныне душа Со-лженицына? Я извинился лишь перед персонифицированным страданием.
Я, не страдавший, извинился.
Но личной вины я не признал, а зря: персонификация (во мне – тех событий) и мне не помешала бы.
Меж тем разговор плавно перетёк с темы на тему.
Одной плоскостью своего (ещё более плоского) со-Бытия – я бодро соучаствовал (иначе бы прошёл мимо моей со-вести). Другую плоскость своего всё более плоского со-бытия – я попробовал чуть-чуть провернуть вокруг тонкой оси (всех этих моих всё более плоских плоскостей).
Третью плоскость моего со-Бытия – я не трогал.
Иначе мне пришлось бы назвать происходящее всего лишь трёхмерной сказкой.
Нас (в этой комнате рас-суждения о репрессиях) – было всего-то четыре человека (я не считал себя: здесь я сказочник). А за нами ещё были все люди, живые и мёртвые (которых, как известно, у Бога нет).
Я (в этой компании и сам в себе – не будь со мной многомерия) мог показаться самым молодым.
В этой компании раз-говор – за-шёл о реальном, а я (сам в себе сказку рас-сказывая) – убегал в сакральное (и кто решит, что более насущно, пусть первый бросит в меня железный довод, облитый горечью и злостью).
Не то чтобы многовековой миф о девочке из народа, которую некие голоса побудили «спасти милую Францию», а неблагодарный король (на коронации которого она держала знамя) не выкупил её из плена у бургундцев (тогда – почти что не французов) и тем самым довёл дело до того, что её выдали англичанам.
А там инквизиция «сшила» своё дело, и «девочку из народа» прилюдно сожгли (чем не наши процессы тридцатых).
Таков финал настоящей-«будущей» (канонизируют её сотнями лет позже) святой.
И обращаюсь я к её имени не только потому, что оно звучит для меня (я невежда, признаюсь) гораздо прекрасней, нежели фамилия славного учителя черчения Бенуа (родственника основателя Мира Искусств), а ещё и потому, что все тогдашние интриги Английского, Французского и Бургундского правящих домов, а так же казуистика двух(!) имевших прямо противоположные результаты инквизиционных трибуналов (мне «наивному» – сквозь века) выглядят гораздо романтичней, нежели быстротечные заседания «троек» (я намеренно не вдаюсь в тонкости сталинского судопроизводства).
Первый трибунал (напомню) – не препятствовал Орлеанской Деве стать будущим символом возрождения Франции.
Второй трибунал (напомню) – прямо обвинил её в ереси и колдовстве, чем предопределил сожжение.
Не углубляясь в детали (к чёрту подробности): второй трибунал по составу мало чем отличался от первого.
Будет ещё третий трибунал, для признания святости.
Почти что через пятьсот лет, в 1920 голу. Согласитесь, для «тогдашней» Жанны он всё-всё(!) изменит.
Если, конечно, речь не о тонком (не путать с плоскостью) мире.
Итак – о репрессиях.
Итак – раз-говор перетёк в другую плоскость (но – не стал пока что ни два-говором, ни три-говором): со-бытия’ каждой личности продолжали присутствовать в «прошлом» раз-говоре.
А я вновь подумал об Орлеанской Деве.
Орлеанской её называли «задолго до Орлеана» – она была (по одной из версий) внебрачной дочерью то ли самого короля, то ли его брата.
Который как раз и звался принцем Орлеанским.
По другой версии – от украинского учёного (что уже почти смешно, но – рассмотрено быть должно) Сергея Горбенко настоящей Жанной д’Арк была Маргарита де Шампдивер, внебрачная дочь короля Карла VI и его последней любовницы Одетты де Шампдмевер.
Карл воспитал свою дочь как воина, поскольку два его сына в борьбе за трон были уничтожены сторонниками герцога Луи Орлеанского. (Сеть)
Зачем я об этом говорю (не только для-ради красоты имён и фамилий, например: Бенуа)?
А всё просто: любая номенклатура (особенно революционная) есть каста, в которую посторонним нет входа. А вот – в подтверждение: «Рассказы о почестях, оказываемых ей (Жанне Д’Арк, прим автора) при разных оказиях, кажутся противоречащими предположению о ее плебейском происхождении. Наверное, Робер Амбелен (Robert Ambelain, 1907–1997) – известный французский писатель, прославившийся своими связями с современными тайными обществами масонского и мартинистического толка, – был первым, кто решил связать ее прозвище «Орлеанская», под которым она фигурирует, например, в поэме Вольтера «Орлеанская девственница» (La Pucelle d’Orleans), с еще одним известным «Орлеанцем» – Орлеанским Бастардом (Le Batard d’Orleans, 1403–1468).
Орлеанский Бастард, или Жан Дюнуа, был незаконнорожденным сыном герцога Луи Орлеанского (Louis de Franc, Duc d’Orleans, 1372–1407) и Мариэтты Ангенской (Mariette d’Enghien). В своей книге «Драмы и секреты истории» («Drames et secrets de l’histoire, 1306–1643»), изданной в Париже в 1980 году и переведенной на русский в 1993 году, Амбелен доказывает, что именно на принадлежность к Орлеанской династии указывает прозвище воительницы.
Тогда объяснима та легкость, с которой Жанна была принята при дворе, и те почести, что ей оказывались, и то, что она принимала участие в рыцарских турнирах и командовала рыцарями.
Итак, отцом Жанны был герцог Луи Орлеанский, о чем знали и представители династии (сторонники этой версии утверждают, что в таком случае Жанна д’Арк родилась в 1407 году). Богатый гардероб Жанны был оплачен герцогом Карлом Орлеанским (Charles d’Orieans, 1394–1465), а Орлеанский Бастард, обращаясь к ней, называл ее «Благородная Дама». Но кто в таком случае мать Жанны? Вслед за Амбеленом, Этьен Вейль-Рейналь (Etienne Weil-Reynal) и Жерар Пем (Gerard Pesme) считают, что, скорее всего, это Изабелла Баварская (Isabeau de Baviere, 1371–1435), жена Карла VI, мать Карла VII. Она долгие годы была любовницей Луи Орлеанского…» (Сеть)
Повторю – зачем всё это?
А затем – чтобы показать (о чистках госслужащих): без удаления этого слоя номенклатуры невозможна смена парадигмы развития страны; но – Франция… Ведь тогда парадигма (внутренний уклад и идеологическая надстройка) развития Франции не поменялась!
В отличие от нас: собственно – всё то же делал Сталин и … (сей-час) почти не делает Путин.
С этим (с его феноменом) сходен феномен Жанны Девы.
Нам сложно это понять. Просто (потому что) – непривычно: парадигма развития – в прошлом веке она трижды менялась в России: военный коммунизм, НЭП и Сталинская индустриализация (может, даже четырежды – первоначально был испробован классический марксизм, в тех условиях быстро доказавший практическую непригодность).
Но (напомню) – раз-говору пора вернуться в реальность.
Разве что: будет ли возможные (реальные) два-гово’р или три-го’вор – ещё более сказочны, нежели всё выше-и-ниже изложенное; согласитесь, сложно называть страшной сказкой то, что имеет вполне себе счастливое окончание.
Разве не счастье, что мы живы и Россия жива?
Теперь – о частностях с-частья (с каждой сестры по серьге – перефраз пословицы): мы хотим, чтобы «слуги народа» исправно делали своё дело… Кстати, в сказке так и происходит: король (или председатель очередного предстоящего нам того или иного «трибунала») – выглядит, как на картине Чурлёниса «Сказка королей»…
В реальности же – «мы хотим иметь государственный аппарат, как средство обслуживания народных масс, а некоторые люди этого госаппарата хотят превратить его в статью кормления. Вот почему аппарат в целом фальшивит.» (Иосиф Сталин)
Но вернёмся в новодел Мира Искусств.
Некоторое время всё внутренне переживали – каждый своё представление о т. н. репрессиях… А потом за-главный раз-говор в новоделе (становясь-таки два-и-три-говором) – вновь плавно перетёк с темы на тему.
Повторю (это – уже два-говор: мир лишь внешне состоит из бескрайних повторов): одной плоскостью своего (ещё более плоского) бытия я бодро соучаствовал (попрёк не прошёл мимо моей со-вести)… Другую плоскость своего всё более плоского бытия (это – уже три-говор) я попробовал чуть-чуть провернуть вокруг тонкой оси (всех этих моих всё более плоских плоскостей).
Дальнейшие свои плоскости со-бытий я не трогал и даже полностью исключил из своей реальности. Иначе – мне пришлось бы назвать плоскость происходящего всего лишь бес-клнечной сказкой… А так – нас всё ещё было четыре-пять человек (неопределённость моей памяти: я не знал, могу ли и себя сосчитать).
Как раз для плоского трёхмерия. В котором мы сидели в креслах в небольшой комнате некоего официального заведения, отведённого для-ради встреч и раз-говоров (до два и три гово’ров дело доходило редко) писателей – напомню, я называл его новоделом Грибоедова; что за чёрт нас свёл вместе?
Уж наверняка это не были какие-нибудь манипуляторы «мировой закулисы»; если честно, ведь мы всего лишь (по моему нескромному разумению) собирались – почти по корпускулам извлекаясь из ноябрьской слякоти…
Аккуратно.
Наклоняясь к не-Бытию и (человеческими пальцами) извлекаясь в со-Бытие.
Собирались – всего лишь «вечность проводить»: дело было в жизненно важном для моей родины ноябре 2023 года… Казалось, именно тогда игра сущностей достигла своего пика, как и в ноябре 1941 года: но – «Ведь мы играем не из денег,
А только б вечность проводить.» (цитата известно чья).
Во всяком случае, я поступал сейчас с своим относительно свободным временем именно так: провожал отвлечённую Вечность на покой и смотрел на вечную сиюминутность; причём – Жанну из Домреми, как и «мою» Жанну, я пока что не привлекал в качестве незримых со-участников беседы (с Вечностью).
Хотя(!) – «мою» Жанну привлечь пытался.
Но(!) – она (красивая женщина) выскользнула из моих попыток.
Ни красоту, ни Вечность не получится использовать в качестве инструмента.
Потому (слушая рас-суждения о репрессиях) я перешёл к рас-(два-три-)суждениям в категориях мифа; иногда даже наша сиюминутная реальность не менее мифо-логична, нежели настоящий миф.
А ещё – за нами (под и над нами, и рядом с нами) были всё те же люди, живые и «мёртвые» (последних, как известно, у Бога нет).
Потому (учитывая «мою» Жанну) – я неизбежно перешёл к логике мифа о Жанне д’Арк.
Зачем они были, эти самые репрессии (и страшные сказки о них – помимо реально ужасающей были), я более или менее показал – по крайней мере себе; а вот зачем «сожгли» Жанну из Домреми?
Если (у нас) смена парадигмы развития страны потребовала репрессий, и это было бесчеловечно-логично (хотя и спасло в результате бесчётно и жизней, и якобы бесплотных душ)… Худо-бедно, но – это я показал.
Новая элита (сталинские наркомы – чудо самоотверженности) была создана, даже с помощью тех самых «чисток» совслужащих, в которых действительно было много от нечистого (лукавого).
А вот зачем была проведена эта ужасающе фальшивая мистерия сожжения спасительницы Франции на рыночной площади Руана?
Ни о какой новой элите тогда и речи не было.
А зачем была проведена мистерия ночного выноса Сталина из мавзолея?
Кстати(!) – о последующих (уже «хрущевских») чистках.
Вопрос о том, кем был Хрущев – сильно неумным человеком и политиком или целенаправленным разрушителем перешедшей к нему от Сталина страны, этот вопрос остается открытым… Но разрушение СССР было начато именно Хрущевым, в этом нет сомнения.
И не эта тема (глобальной трагедии) есть канва этого повествования. И касаюсь я её поверхностно – для-ради знания и само-определения.
«Партийная дисциплина сыграла с народом злую шутку: по привычке верить Сталину, люди поверили и его «наследнику» Хрущёву. При этом подавляющее большинство (98,2 %) населения СССР в годы правления Сталина никогда не подвергалось политическим репрессиям ни в какой форме. На сокрытие этого непреложного факта длительное время направлена вся мощь пропагандистской машины. На этом мифе взращено молодое поколение народа и изрядно распропагандировано старшее. Реальное число репрессированных от намеренно выдуманных цифр отличается многократно. В настоящей статье мы опираемся на данные, опубликованные в книге В. Земского «Сталин и народ», М., 2018.