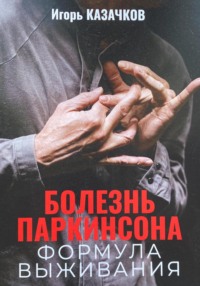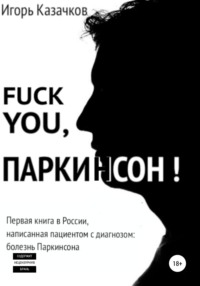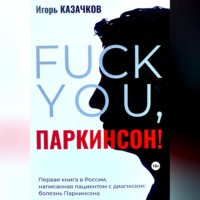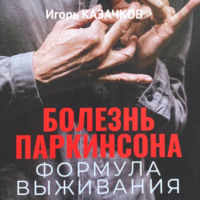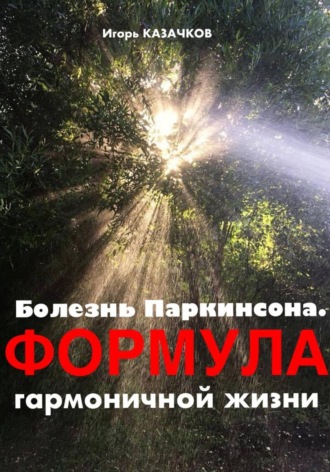
Полная версия
Болезнь Паркинсона. Формула гармоничной жизни

Игорь Казачков
Болезнь Паркинсона. Формула гармоничной жизни
Предисловие.
В мире существует большая традиция написания книг пациентами с теми или другими заболеваниями, в которых они описывают своим мытарством в надежде оставить след о памяти будущих поколений и помочь тем согражданам, которые не имеют столь длительного опыта борьбы с той или иной болезнью, «придуманной» природой для человека.
Особое место в этой литературе занимают книги, которые написаны пациентами, страдающими болезнью Паркинсона. В этом ряду свое место занимает книга Игоря Казачкова, первое издание которое называлось более радикально: «Fuck You, Паркинсон!». А следующее издание, которое в настоящее время представляется вашему вниманию, названо скорее лирично – «Болезнь Паркинсона. Формула гармоничной жизни!» В нашей стране это, пожалуй, первая книга, издаваемая пациентом о своей болезни. Про болезнь Паркинсона на русском языке Х издавались научные книги, в меньшей степени ( хотя и абсолютно недостаточно), популярные книги, написанные врачами, но среди этого многоголосия не было слышно голоса самих пациентов. Теперь пациенты заговорили и их голос представлен в полной мере Игорем Казачковым.
Сразу же отметим, недюжинный литературный талант автора, книга читается легко, на одном дыхании. Вспомним хотя бы эпическое начало, с которого начинается первая часть: «Я проснулся глубокой ночью.»– звучит как у Данте: «Земную жизнь пройдя до половины…» Автору есть о чем рассказать, ведь его опыт включает более 5000 дней, проведенных «в сумрачном лесу» болезни Паркинсона.
Вряд ли имеет смысл отмечать юбилей болезни. Но вместе с тем нужно отметить, что автор подходит к своему недугу оптимистически, утверждая, что научился не драматизировать периоды плохого самочувствия, ожидая, моменты, когда «Злодей Паркинсон разжимает свои тесные объятия»! Подробный рассказ о длительном периоде постановки диагноза, завершившаяся в немецкой клинике, пожалуй, единственная ситуация, которая нетипична для большинства пациентов в нашей стране. Они «получают» свой диагноз в отечественном здравоохранении, примерно с той же скоростью, но безусловно, ценою больших усилий и страданий. Теперь же, когда в нашей стране буквально на глазах создается система организации помощи пациентам с болезнью Паркинсона, очень своевременно и к месту оказались комментарии одного из представителей «среднего поколения» отечественных паркинсонологов Е.В.Бриль.
При этом старшее поколение, к которому я отношу и себя, внесло большой вклад в создание базиса для этой системы. Автор с удивительной точностью и тактичностью передает свои дискомфортные ощущения, что позволяет рекомендовать эту книгу для пациентов, их родственников, начинающим специалистам, но и умудренным экспертам в этой области! Чтобы лучше понимать своих пациентов, особенно ценны подробные описания таких симптомов как: «залипания (застывания), утомляемость, суточные колебания состояния пациента, ночные симптомы и широкий спектр психологических переживаний, связанных с принятием болезни». Автор еще раз напоминает, что главнейшую роль в самочувствии пациента играет поддержка близких. Деятельная помощь со стороны родственников, друзей и коллег очень важна не только для психологического здоровья, но и для поддержания физической активности.
В результате глубоких философских размышлений, автор приходит к выводу, о том, что человек активно борющийся с болезнью не теряет смысл жизни и готов бороться до конца. Но особенно важное послание данной книги заключается в изменении общественного взгляда на болезнь Паркинсона, которое заключается в том, что это преимущественно болезнь старческого возраста, «болезнь конца жизни», в преодолении стигматизированности заболевания пациентов с этим заболеванием. Оборотная сторона этого социальная фобия, которая свойственна многим из них. Между тем значительная часть дебютов болезни Паркинсона приходится на возраст 50-60 лет, таким образом болезнь Паркинсона – это болезнь не только пожилого, но и среднего возраста.
Это возраст, когда человек, наделенный жизненным опытом, часто чувствует «второе», а иногда и «третье» дыхание. И вдруг как Титаник оказывается потопленным не весть откуда взявшимся айсбергом— недугом, столкновение с которым никто не мог предвидеть. Этот процесс может продолжаться не одно десятилетие, соответственно требует глубокой психологической работы. С другой стороны, пациентам и их родственникам должны быть протянуты руки помощи, со стороны не только здравоохранения, но и социальных служб, а таже со стороны общества в целом.
Зачастую мы видим случаи негативного отношения в социуме, которое усугубляет восприятие пациентом своей болезни как трагедии. Опыт Игоря Казачкова очень важен с точки зрения преодоления трагического отношения к болезни – за счет создания благоприятной обстановки в семье, общения с друзьями, самоорганизации пациента, и, не в последнюю очередь, за счет творческого отношения к жизни. Нельзя не отметить стремление значительной части пациентов с болезнью Паркинсона к творчеству в области художественного искусства, создании литературных произведений и в меньшей степени музыкальных экспериментов.
Многие из этих новых способностей связаны безусловно не с самой болезнью, а впервые появившихся возможностей больше времени уделять хобби. Вероятно, творческий импульс, связанный с болезнью Паркинсона, накладывается на предрасположенность к творчеству, которое прослеживается в течении всей жизни пациента.
Возможно, что этот феномен связан с изменением взаимодействия между правым и левым полушарием, ибо только в случае ассиметричной патологии встречается подобное «отставленное» творческое развитие. Нельзя исключить, что это результат выхода правого полушария в котором сосредоточены творческие процессы из под «цензуры» левого строго логического полушария.
Книга важна не столько как источник знаний о болезни Паркинсона, сколько как руководство по изменению психологического отношения к болезни, которое делает человека более стойким, резистентным к патологическим изменениям, может усиливать моторные, физические и интеллектуальные резервы, позволяющие успешно сопротивляться болезни более длительное время.
И в заключении надо сказать, что эта книга нужна всем нам и имейте в виду: Игорь Казачков, мы за тебя «болеем»!
Профессор д.м.н.
О.С. Левин.
. От автора
Живу! С болезнью Паркинсона
Декабрь 2024 года. Непростое время, нелёгкое. И для страны, и для каждого из нас. Меня зовут Игорь Казачков, мне 64 года, из них 14 лет я живу с болезнью Паркинсона. Последние года четыре я посвятил тому, чтобы рассказать людям на своём примере, что можно полноценно жить с неизлечимой болезнью.
Я хожу с палками для скандинавской ходьбы, метаю ножи, занимаюсь настольным теннисом, езжу на велосипеде, играю в шахматы, пою и играю на гитаре, записываю свои музыкальные эксперименты на домашней микростудии, снимаю и монтирую видео, занимаюсь деревом (поделки разного размера из дерева, собранного на берегу Чёрного моря). Список не исчерпывающий.
Видео я начал заниматься уже с диагнозом «болезнь Паркинсона». С абсолютного нуля. Большинство работ связаны с музыкой, но не только.
К текущему моменту сделал где-то в районе 1000 видео, некоторые из них уникальны, например, уроки игры на гитаре с авторами песен. Алексей Романов, Евгений Маргулис, Михаил Клягин, Роман Луговых, Николай Шипулин, Алексей А. Кузнецов – все они были под прицелом моей камеры, рассказывали и показывали, как правильно играть их произведения.
14 лет с болезнью Паркинсона, без малого 5000 дней. И это не было 5000 дней мучений и страданий, это было прекрасное время и оно продолжает свой бег. Я научился не драматизировать периоды плохого самочувствия, а когда злодей Паркинсон разжимает свои тесные объятия, прекращает крутить мышцами ног как будто это корабельные канаты, меня каждый раз охватывает эйфория: «Я жив и здоров!»
Скажу тебе, уважаемый читатель, или человек, взявший эту книгу в руки, следующее и главное. Крики: всё пропало, мне конец, жизнь закончилась и т.п. абсолютно неуместны. Всё лучшее у тебя впереди!
Часть 1. Живу с болезнью Паркинсона.
Я проснулся глубокой ночью. Неведомый мне будильник, ответственный за своевременное мочеиспускание, слава Богу, сработал. Сделал первую попытку повернуться на левый бок – не получилось. Ни руки, ни ноги не слушаются… Не привыкать, впрочем. Со второго раза удалось закинуть правую руку влево, потом повернуть корпус. Теперь ноги. Удалось их заставить сдвинуться с места, теперь лежу на левом боку. Спускаю ноги вниз, уже сделано больше полдела! Опираюсь правой рукой о деревянный каркас кровати, а левой – в мягкую постель. Сел. Уффф…
Медленно встаю, резко нельзя – не хватало ещё рухнуть в обморок, как тогда, в боулинге. Встал. Сердце колотится, будто поднялся на вершину Эвереста. По спине холодок, снимаю насквозь мокрую футболку, бросаю её на пол. На обратном пути надену чистую. Раньше всегда спал раздетый, сейчас невозможно. Вне зависимости от температуры в помещении сильно потею ночью, такая вот напасть.
Надо идти. Каждый шаг даётся с трудом, кое‐как одолел метра три приставными шагами, споткнулся и остановился. Сколько времени это происходит, не знаю. Когда выхожу, наконец, из туалета, остатки сна уже где‐то далеко и не со мной. И так каждый день, каждую ночь.
У меня болезнь Паркинсона. Дрянная вещь, скажу я вам. Но удаётся как‐то жить, жить полноценной жизнью, работать, и много ещё чего делать интересного. Потому показалось важным поделиться своим опытом, возможно, уникальным, может, и нет. В любом случае, надеюсь, кому‐то это поможет сохранить бодрость духа, семью и, вполне вероятно, саму жизнь. Надеюсь справиться с этой задачей, тем более в течение всех этих лет делал короткие записи о своём состоянии, пытаясь уловить системные изменения, чтобы проинформировать лечащего врача.
Октябрь 2010 года. Начало
Всё началось в октябре 2010 года, мне было пятьдесят лет. Ирина, моя супруга, заметила, что я подволакиваю правую ногу. Были ещё какие‐то поводы, точно не помню.
И я пошёл к неврологу, в известную клинику. Профессор, хорошо одетый стройный мужчина примерно моих лет, после осмотра пригласил для разговора мою супругу – мы приехали вместе. Ирина приехала по своим проблемам, но их решение ей пришлось отложить на потом (не первый и, увы, не последний раз). И вот нам оглашают вердикт. С большой долей вероятности у меня болезнь Паркинсона. Почему речь идёт о вероятности, а не о диагнозе – нужны дополнительные обследования.
Далее профессор сказал буквально следующее:
– Я могу выписать вам лекарства, которые снимут симптомы, легко. Но дальше будет только хуже. Рекомендую похудеть на 10 кг, вести здоровый образ жизни и не париться по этому поводу.
Что именно будет хуже, осталось для меня загадкой до сих пор, почему‐то об этом говорилось, как о заветной военной тайне. Запомним этот тезис, вернёмся к нему позже.
А я и не стал париться. Худеть на 10 кг не собирался, во мне было тогда, как и сейчас, примерно 100 кг. Супруга иногда называет меня ласково – Центнер. Образ жизни вёл вполне себе здоровый, хоть и без фанатизма.
По дороге домой Ирина плакала, женским чутьем понимая, видимо, что её ждёт. Я верил, что мой предварительный диагноз – это ошибка, и напористо её успокаивал. В те же дни мы сделали МРТ, провели ещё какие‐то исследования, но все они ситуацию не прояснили.
Что я знал про Паркинсон к этому моменту? Только то, что болезнью Паркинсона болен Мухаммед Али, великий боксёр, легендарный чемпион, лучший из лучших боксёров всех времён и народов. И что при этой болезни трясутся руки. Али периодически показывали по телевизору: выглядел он не блестяще, но и не катастрофически. Тремор у него, если и был, то не бросался в глаза. Обращала на себя внимание, скорее, странная мимика лица. Вот, собственно, и все познания по поводу данной болезни. Поначалу я сильно не встревожился, предпочитая решать проблемы по мере их поступления.
Проблемы не заставили себя долго ждать. К Новому году, а прошло чуть больше двух месяцев, всё существенно изменилось в худшую сторону. Я это хорошо помню, поскольку на праздник к нам приехали гости – мама, брат с семьёй – все они были шокированы моим видом, да и я сам тоже. Лицо стало похоже на застывшую маску, мимика, если и была, то какая‐то жутковатая. Походка, как у зомби в фильмах ужасов, движения руками и телом медленные и несуразные. Так себе зрелище, не для слабонервных. Правая рука отказывалась слушаться, писать не мог совсем, брился и чистил зубы левой рукой. Здоровый образ жизни ни хрена не помог, видимо, всё из‐за того, что не выполнил рекомендацию по похудению. Шутка!
Примерно в это же время было посещение ещё одного замечательного лечебного учреждения, куда меня активно направлял Александр Алексеевич Кокорин, профессор философии, мой старший товарищ, к глубочайшему сожалению, покинувший нас преждевременно.
– Это американская клиника, – говорил он. – Там люди работают с американским менталитетом, там совершенно другой подход. Из уважения к нему я решил отработать и этот вариант, хотя к тому времени уже был план поехать на обследование в Израиль, и этот план активно прорабатывался.
Приехал в клинику, перед приёмом медсестра промеряла давление. С доктором побеседовали за жизнь минут десять, прозвучало предложение обследоваться в Германии за шесть тысяч евро, после чего я откланялся. Через пару дней был звонок от врача по поводу моего решения насчёт поездки в Германию. Я попросил прислать мне развёрнутое предложение по обследованию, с расшифровкой того, что же входит в предложенную сумму. Решить эту задачу ребятам с американским менталитетом не удалось, видимо, не осилили и сдулись, наше общение прекратилось. Но! Прозвучало ключевое слово – "Германия".
Впрочем, я забежал чуть вперёд. Возвращался домой, несколько раздосадованный потерянным временем, там меня встретила Ирина, вся в слезах, очень расстроенная.
– Звонил Кокорин, сказал: Ну, ты же ко всему готова? Наберись мужества, мозг умирает, вопрос нескольких месяцев. Доктор сказал ему. – И снова в слёзы.
– Постой‐постой, – говорю. – Это кто ему сказал, какой доктор?
– Как какой? У которого ты был, – всхлипывает Ириночка.
– Дык у меня, кроме того, что померили давление, никаких исследований не проводили! Как они определили, по давлению?!
Это было бы смешно, но как‐то не хотелось смеяться. В первую очередь из‐за Ирины, такие новости отняли у неё годы жизни, безусловно…
Как я уже сказал, к этому моменту мы уже прорабатывали вариант с Израилем, контактируя через друзей с неким военным госпиталем. Там был проверенный вариант, шёл конкретный диалог, назывались нормальные реальные цифры, всё шло к тому, что полетим туда. Естественно, всем этим занималась Ирина. Она же, отойдя от шока, вызванного тем, что «мозг умирает», быстро отреагировала на слово «Германия». Природный ум, энергия, удивительное женское чутьё и наша непрекращающаяся до сего момента взаимная любовь – всё это заставило её позвонить Зое.
Дорогой читатель, здесь тебя подстерегает неожиданность. Я обратился к очень уважаемому мною человеку, Екатерине Витальевне Бриль, с просьбой прокомментировать фрагменты рукописи, которые ей покажутся требующими того. Хоть я и не ставил себе задачи сделать нечто наукообразное из своей книги, но не хочется нести людям какие-то откровенные глупости. Это было бы как-то не по-товарищески.
Потому мне показалось, что будут полезны комментарии специалиста. Здесь и далее вам встретятся реплики Екатерины Витальевны, сделанные ею собственноручно, без авторского вмешательства.
Бриль Екатерина Витальевна – врач-невролог, доктор медицинских наук. Руководитель Федерального неврологического центра экстрапирамидных заболеваний и психическогр здоровья ГНЦ МНБЦ имени А.И. Бурназяна.
Больше информации вы найдете на сайте доктора Бриль https://bril-ev.com
Екатерина Бриль:
«Читаю и думаю, как часто в моей практике приходят пациенты и рассказывают о том, как грубо им сообщили диагноз и сделали прогноз на будущее. Я сама много раз задавала себе вопрос: а как говорить? Как сообщать этот диагноз, не травмируя пациентов, но и соблюдая баланс правды и надежды… Искала статьи на эту тему в русскоязычной литературе (не очень успешно).
А вот в англоязычной написано много.
В 2014–2015 годах Европейской ассоциацией болезни Паркинсона (EPDA) был проведен опрос пациентов с болезнью Паркинсона в 11 странах (Германия, Франция, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Ирландия, Словения, Испания, Италия, Венгрия и Дания). Целью опроса было изучить опыт получения пациентами информации об их диагнозе, а также о факторах, оказавших влияние на восприятие этой информации. Было установлено, что 50% пациентов не удовлетворены тем, как им сообщили диагноз, и только 38% пациентов сообщили, что у них было достаточно времени, чтобы задать врачу необходимые вопросы и обсудить связанные с этим проблемы. Было показано, что сообщение диагноза пациентам с болезнью Паркинсона является важной составляющей, оказывающей несомненное влияние на качество жизни пациентов даже через много лет после этого события. Мы c коллегами в нашей стране в 2021 году провели Всероссийское анкетирование пациентов с болезнью Паркинсона, в котором поучаствовало более 700 пациентов со всей страны, интересный факт для меня был в том, что отвечая на аналогичный вопрос Европейской ассоциации по БП касательно опыта сообщения диагноза, наши российские пациенты в большей степени были удовлетворены тем, как им сообщили диагноз болезни Паркинсона, по сравнению с европейскими (71,4% были удовлетворены, 28,6% – нет). Конечно, такой процент положительных ответов российских пациентов не может не радовать нас, врачей, но однозначно нам есть, над чем ещё работать.
Зоя
С Зоей на тот момент мы были знакомы довольно поверхностно. Но судьбе было угодно, чтобы именно она стала вторым человеком, сыгравшим решающую роль во всей этой истории. Первый, как вы уже поняли, конечно, Ирина.
Впрочем, обо всём по порядку. В мае 2009 года мы с Ириной впервые побывали в Баден‐Бадене и влюбились в этот город. Возникла идея отпраздновать моё 50‐летие (26 апреля 2010 года) именно там. Выбрали отель Rathausgloeckl, небольшой, камерный. Удобно расположенное красивое старинное здание, в двух шагах от Friedrichsbad. В отзывах, более чем благожелательных, прочитали, что хозяйка отеля – украинка, муж у неё – немец. Почему‐то я представил крашеную блондинку с формами, подвижную и громко смеющуюся. Воображение богатое, правда, есть ещё и некий жизненный опыт.
Прилететь ко дню рождения не удалось, попали под раздачу вулкана, мать его, Эйяфьядлайекюдль, загадившего именно в те дни все европейское небо дымом или пеплом, не помню уже точно, чем. Но факт остаётся фактом – самолёты всю неделю не летали.
Перенесли поездку, прилетели примерно через месяц. Подъезжаем на такси к отелю. Не успел я, расплатившись с таксистом, взять свой чемодан (мечта оккупанта, естественно!), как его подхватила стройная девчушка (чёрный низ, белый верх), улыбчивая и густоволосая. Это и была Зоя, безусловно, украшение улицы Steinstrasse, на которой расположен отель, а также прилегающих к ней лестниц и переулков. Зоя – очень харизматичная личность, вокруг неё всегда крутятся гости, одновременно говорящие на разных языках. Я тоже крутился, (не более того) одновременно с китайцами, арабами, британцами и постоянными гостями отеля – москвичами.
Тем не менее, Ирина позвонила именно Зое, и это оказался очень сильный ход, возможно, единственно правильный в нашей ситуации. Потом я узнал, что Оливер, супруг Зои, тот самый немец из интернета, очень ругал её за то, что она согласилась мною заниматься. Нет, не потому, что он злодей! Просто потому, что лучше других знает, как она всё принимает близко к сердцу и чужие беды пропускает через себя. Зоя, в свою очередь, опять же ретроспективно, сказала, что ни за что не стала бы этим заниматься, если бы попросил кто‐то другой, не Ирина. Вот такой клубок причинно‐следственных связей.
Буквально через несколько часов мы узнали о существовании Parkinson Klinik. в городе Volfach, а ещё через пару дней были записаны на приём. Зоя всегда всё делает очень быстро. Остальное было делом техники, запомнилось, что когда мы стояли за визой в Консульский отдел Посольства Германии, было холодно и меня дико трясло.
Вольфах, январь 2011 года
В январе 2011 года мы впервые посетили это замечательное медучреждение. Удивительно красивое, тихое, уютное место. Повсюду зелень, в маленьком пруду плавают рыбки. Никаких тебе бахил и охранников на входе. Очень вежливая сотрудница, поприветствовав нас, как старых друзей, сказала, что нас ждут. Ждал нас доктор Фукс (dr Fuchs), главный врач клиники, человек удивительного обаяния, спокойный и уверенный, от одного его вида всегда становилось лучше. Он и занимался мною.
Мы долго разговаривали, обследование продолжалось почти весь день. Всё происходило споро, ненапряжно и деликатно. Время от времени меня кто‐то забирал на очередной тест. Подробностей не помню, запомнился тест на запахи – это тоже имеет значение, оказывается. А вообще, тестов было много, думаю, не менее двадцати. Ясной и однозначной картины обследование не дало. Часть результатов указывала на Паркинсон, часть была нетипичной для этой болезни.
Екатерина Бриль:
Читаю по поводу того, как Вас обследовали перед тем, как поставить диагноз. Я думаю, у многих пациентов, читающих Вашу книгу, возникнет вопрос, а что же с Вами делали целый день, чтобы поставить диагноз? Ведь большинство пациентов у нас в стране получает диагноз после 15-минутного приёма врача, в лучшем случае 30-минутного у паркинсонолога. Какие именно обследования?
И здесь мне хочется кое-что прокомментировать… Во-первых, я часто сталкиваюсь в работе с фразами пациентов: как вы можете поставить мне диагноз, не проведя дополнительных инструментальных методов (КТ, МРТ, или вообще, обследования уровня дофамина в крови и ещё куча всего)? Это очень трудно осознать, но диагноз болезни Паркинсона в первую очередь – клинический, и ставится при обычном осмотре невролога, которого действительно в большинстве типичных случаев вполне достаточно.
Дополнительные методы исследования, такие как КТ или МРТ назначаются при сомнении в диагнозе и проведении дифференциальной диагностики с другими заболеваниями, такими как, например, нормотензивная гидроцефалия, сосудистый паркинсонизм или паркинсонизм плюс и многие другие. В некоторых случаях в других странах проводят т.н. DATscan. Т.е. в типичном случае необходимости в дополнительных методах нет.
Ошибаются ли неврологи? Да, ошибаются. По данным международных исследований 20% пациентов с болезнью Паркинсона, которые уже обратились за медицинской помощью, не были диагностированы как таковые. Тем не менее, ряд других работ показывает, что 8 из 10 пациентов с БП получают верный диагноз. Интересный факт заключается в том, что разница между тем, как поставил диагноз эксперт паркинсонолог и просто обычный невролог различается не очень сильно. (73,8% vs 79,6%). Интересно было бы провести у нас такое исследование…–
Отвечаю на реплику Екатерины Витальевны.
Запомнился тест на запахи, он продолжался долго, и я его с треском провалил. И в хорошие-то годы я голубику от черники по запаху не отличил бы, сейчас тем более. Затем что-то писал и рисовал, круги, квадраты, тыкал ручки? или карандашом куда-то и т.д. Очень плохо помню детали.
Допускаю вполне, что доктор Фукс через 15 минут тоже уже знал диагноз, но, как бы то ни было, меня пустили по большому кругу, результатом чего стало окончательное и бесповоротное принятие мной диагноза «болезнь Паркинсона». Также напомню, что это было в 2010 году. Знания по обсуждаемой теме тогда сильно уступали сегодняшнему дню. В частности, мне непонятно до сих пор, почему меня не направили к паркинсонологу?? Ведь тогда уже были и та же Е. Бриль и О. Левин, как минимум.
Продолжаем наш рассказ о первом посещении клиники в Вольвахе. В какой‐то момент ко мне подошёл парень, значительно моложе меня, заговорил по‐русски, в клинике есть и стационар, он лежал там. Вид его был ужасен, разговор не получился, мне не хотелось думать о том, что меня ждёт нечто подобное.
У нас оставалась надежда на то, что это не Паркинсон. С другой стороны, была вероятность, что это может быть ещё более тяжёлое заболевание.