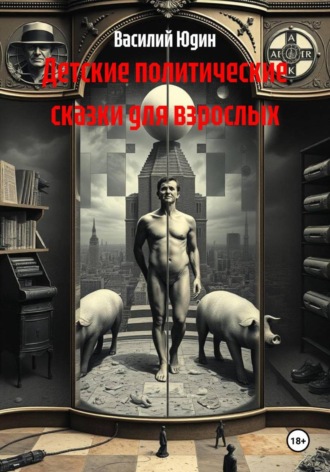
Полная версия
Детские политические сказки для взрослых
Лир, как заводной, подносил блюда, поднимал платки, ловил взгляды. Он слышал обрывки разговоров:
«Мой новый управитель докладывает, что добыча упала на три процента. Лентяи! Не ценят, что мы даем им работу!» – бубнил граф с лицом, похожим на испорченный пудинг.
«Ах, эта вечная копоть из Низин! – вздыхала дама с бриллиантами, вплетенными в складки на шее. – Она просто портит воздух. Я велела завести в саду фонтан с розовой водой, чтобы смывать ее».
Лир смотрел на их руки, унизанные перстнями, на рты, жующие фазана, и вспоминал руки отца, покрытые ожогами, и рты его друзей-подмастерьев, жующих черствый хлеб с салом. Когнитивный диссонанс сводил ему скулы.
В разгар пира Барон Глютт поднялся с трона. Его тело затряслось от усилия. Наступила тишина.
«Друзья мои! Братья и сестры по Унции! – его голос был густым, как кисель. – Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать наше процветание! Нашу мудрость, которая направляет труд тысяч во имя величия Империи!»
Он говорил о «бремени власти», о «заботе о благосостоянии каждого», о том, что «каждый на своем месте – винтик великого механизма». Лир слушал, и ему хотелось закричать. Он видел, как у Герцогини Лилии дрогнул уголок губ. Она смотрела на отца не с восхищением, а с холодной, изучающей насмешкой.
После речи Барон объявил о «жесте милосердия». По его приказу внесли несколько корзин. В них лежали черные, затвердевшие лепешки.
«Это – «Хлеб Солидарности»! – провозгласил Барон. – Из отборной рудной пыли, овса и моей отеческой любви! Сегодня мы, превозмогая свое положение, разделим трапезу с нашими верными Легионами! Пусть каждый стражник отнесет по лепешке в Низины, дабы народ вкусил от нашего пира!»
Аристократия разразилась аплодисментами. Они умилялись собственному великодушию. Лир смотрел на эти корзины с «хлебом», который был не чем иным, как отходами производства, и его тошнило. Это был не жест милосердия. Это было плевком в лицо.
Поздно вечером, уставший и подавленный, Лир понес графин с водой в покои Герцогини Лилии. Дверь была приоткрыта, и он услышала голоса. Герцогиня говорила с Mr. Стриктом.
«…совершенно невыносимо. Этот фарс. Эти жирные, самодовольные рожи», – ее голос был холоден и четок.
«Терпение, Ваша Светлость, – отвечал Стрикт. – Ваш отец… символ старого порядка. Но символы ветшают. Публика любит жесты. Сегодня – «Хлеб Солидарности». Завтра… можно будет говорить о «необходимой экономии» и «перераспределении ресурсов» в пользу «эффективных управленцев». Народ любит, когда его обкрадывают изящно».
«Я знаю. Я все знаю, Стрикт. Я не собираюсь раздавать им хлеб. Я собираюсь объяснить им, что они должны меньше есть. И заставить их поверить, что это их собственная идея».
Лир застыл. Он понял, что Герцогиня Лилия не лучше отца. Она была хуже. Отец был слепым обжорой, а она – холодным, расчетливым хищником, которая видела болезнь системы, но хотела не вылечить ее, а возглавить.
Он отшатнулся и случайно задел стоящую рядом алебастровую вазу. Та с грохотом разбилась.
Из покоев вышла Герцогиня. Ее лицо было спокойно.
«Паж. Ты что-то слышал?»
Глаза ее были как лед. Лир, дрожа, пробормотал что-то о неловкости.
«Правду говорят, большие уши – к большим неприятностям, – мягко произнесла она. – Но я милосердна. Ты вернешься в Низины. Возьми это».
Она протянула ему одну из тех самых черных лепешек – «Хлеб Солидарности».
«Поделись с семьей. И помни о щедрости, которую видел сегодня».
Его вытолкнули за ворота дворца той же ночью. Он стоял на склоне, отделявшем сияющий Мраморный Квартал от дымной пропасти Низин. В руке он сжимал каменную лепешку. Внизу, в темноте, тускло светились огни доменых печей, слышался далекий, монотонный стук молотов.
Лир вернулся. Он снова стал одним из «Железных Легионов». Он работал, он кушал свою скудную похлебку, он молчал. Но что-то в нем изменилось навсегда.
Иногда, глядя на своих товарищей, он видел в их глазах тупую покорность. Иногда – затаенную злобу. Он понимал и то, и другое. Он знал, что бунт назреет. Но он также знал, что видел за кулисами пира. Он видел, что тирания – это не только тучный Барон, жрущий на золоте. Это еще и его дочь, холодная и голодная, готовая сменить обжору у власти, чтобы все осталось по-сути тем же. Просто под другим соусом.
Он сжал в кармане ту самую лепешку. Она была твердой, как железо. Как правда, которую он теперь носил в себе. И как цепь, которая навсегда связала его с тем миром, что был за стенами дворца. Он был свидетелем. И это знание было и проклятием, и единственным его оружием. Пир продолжался. Но Лир уже не верил в сказки про «винтики» и «великие механизмы». Он видел правду. А правда, как известно, ржавеет, но не гнется.
Песочные часы и каменный топор
Они были лучшими из лучших. Воспитанники элитарной «Академии Синтеза Знаний», дети-вундеркинды, отобранные по всему миру за свои интеллектуальные способности. Их мир состоял из формул, алгоритмов, философских трактатов и абсолютной веры в могущество разума. Они летели на саммит юных гениев, когда в небе что-то треснуло, завыли сирены, а мир перевернулся. Последнее, что помнил Арктур, звезда класса по астрофизике, – это ослепительную вспышку и вой ветра.
Он очнулся на песке. Рядом хлюпали волны, шуршали неизвестные листья, и пахло гнилью и солью. Цивилизация кончилась здесь, на кромке дикого, шумящего океана.
Их было одиннадцать. Арктур, естественный лидер, с умом, sharp as a razor, но с руками, никогда не державшими ничего тяжелее планшета. С ним была Кассандра, виртуоз в нейроинформатике и кибернетике, чьи пальцы могли взломать любой сервер, но не могли разжечь костер. Был Тит, знаток античной истории и латыни, способный процитировать Тацита, но не способный поймать краба. Был хрупкий биохимик Линус, говоривший о белках и аминокислотах, но бледневший при виде крови. И остальные – блестящие, узконаправленные и абсолютно беспомощные.
Арктур, откашлявшись, созвал первое собрание.
«Коллеги, – начал он, и это обращение звучало теперь абсурдно. – Мы столкнулись с нештатной ситуацией. Нам необходимо систематизировать данные и выработать алгоритм выживания».
Они сидели на песке, и Арктур палкой чертил на нем схему: «Сектор А: Водоснабжение. Сектор Б: Продовольствие. Сектор В: Укрытие». Это была их первая попытка натянуть знакомую сетку координат на хаотическую реальность джунглей.
Кассандра предложила смоделировать климатические циклы для прогнозирования дождей. Тит вспомнил, как римские легионеры строили лагеря. Линус начал рассуждать о питательной ценности местной флоры, но не мог отличить съедобный корень от ядовитого.
Пока они спорили, самый младший и тихий из них, мальчик по имени Марк, которого все звали «Эрудитом» за феноменальную память, молча ушел к кромке леса и вернулся с охапкой сухих веток. Потом взял два камня и, к всеобщему изумлению, после нескольких неудачных попыток высек искру. Он не был гением в общепринятом смысле. Он просто любил читать книги о выживании, что считалось в Академии «несерьезным увлечением».
Первые дни прошли под диктовку Арктура. Они строили «идеальное укрытие» по чертежам Кассандры, которое развалилось при первом же порыве ветра. Они пытались ловить рыбу, сплетая «оптимальные» сети из лиан, которые рыба игнорировала. Голод, постоянный и унизительный, стал их новым учителем.
Именно тогда начал набирать вес Марк. Пока «совет» теоретизировал, он находил съедобные грибы, соорудил примитивные силки и научился различать следы животных. Он делал это молча, не пытаясь никого учить. Его знания были не абстрактными, а практическими, телесными.
Арктур испытывал к нему смесь зависти и презрения. Это был вызов всей его системе ценностей. Как так? Человек, не способный решить уравнение Шрёдингера, оказывается полезнее его, Арктура, в самой важной на свете задаче – задаче выживания?
Конфликт вышел наружу, когда Линус, следуя «научному методу», попробовал на вкус незнакомую ягоду. Через час его начало рвать, у него поднялась температура. Кассандра в панике пыталась рассчитать антидот на основе предполагаемого алкалоида. Тит в отчаянии цитировал Сенеку о бренности бытия.
Марк, услышав шум, подошел, посмотрел на ягоды, на язык Линуса, уже распухший и синий, и покачал головой.
«Ничего нельзя сделать. Он умрет».
Этот приговор, вынесенный спокойным, негромким голосом, повис в воздухе. Он был страшнее любой формулы. Это был приговор их прежнему миру, где любую проблему можно было решить с помощью интеллекта.
Линус умер к утру. Его похоронили в песке. Идея «Совета Разума» была похоронена вместе с ним.
После смерти Линуса власть Арктура пошатнулась. Люди инстинктивно потянулись к Марку. Он мог добыть еду. Он мог предсказать дождь по поведению птиц. Он был силен и ловок. Его молчаливая компетентность стала новой валютой на острове.
Арктур видел это. И его рациональный ум начал вырабатывать новую стратегию. Если нельзя победить эту «стихийную силу», ее нужно возглавить. Он подошел к Марку.
«Твои навыки бесценны, Марк. Но ими нужно управлять. Ты – сила. Я – стратегия. Вместе мы сможем выстроить эффективное сообщество».
Марк, усталый, с окровавленными руками после разделки черепахи, молча кивнул. Ему было все равно до политики. Ему нужен был порядок, чтобы выжить.
Так родился новый альянс. Арктур стал «Голосом». Он формулировал приказы, распределял задачи, вел «Летопись Острова». Марк стал «Руками». Он показывал, как делать копья, как строить прочные хижины, как хранить пищу.
Но очень скоро «Голос» начал присваивать себе все больше власти. «Летопись» стала пропагандой: в ней Арктур представал мудрым правителем, а Марк – всего лишь инструментом. Еду, добытую всеми, Арктур начал «распределять», оставляя лучшие куски себе и своей приближенной – Кассандре, которая теперь видела в нем единственную опору в этом хаосе.
Когда на острове установилось подобие порядка, случилось непоправимое. Пропала девочка по имени Ирина, талантливая художница. Ее нашли через день в чаще. Она была мертва. Рядом валялось окровавленное копье – одно из тех, что сделал Марк.
Ужас и гнев искали выхода. И Арктур дал им направление.
«Коллеги! – его голос дрожал от напускного волнения. – Мы пытались построить цивилизацию, но среди нас завелся дикарь! Марк и его «инстинкты» привели нас к этому! Он – угроза! Он не контролирует свою животную природу!»
Это была блестящая, чудовищная ложь. Она была построена на страхе «цивилизованных» детей перед темной, непознанной силой, которую олицетворял Марк.
Марк пытался отрицать, но его неуклюжие слова тонули в истеричном хоре обвинений, которые направлял Арктур. Разум, лишенный морали, превратился в совершенное орудие манипуляции.
«Он опасен! Он должен быть изолирован!» – кричала Кассандра.
Их, некогда блестящих учеников, охватила стадная ярость. Они с копьями в руках, сделанными по чертежам Марка, пошли на него. Охота на человека, которого еще вчера они считали своим спасителем, стала кульминацией их падения.
Марк, преданный и гонимый, бежал вглубь острова. Он был сильнее любого из них поодиночке, но против толпы, ведомой холодным расчетом Арктура, у него не было шансов.
Он забрался на самую высокую точку острова – скалистый утес, с которого было видно все побережье. И там, отчаявшись, не надеясь уже на спасение, он поджег сухую траву. Огромный столб дыма поднялся в небо.
Это был не поступок отчаяния. Это был крик его инстинктов, его последняя, отчаянная попытка выжить.
И этот крик услышали.
Самолет спасательной службы, уже проходивший вдалеке, заметил дым и изменил курс.
Их спасли. Вернувшись в мир, они стали героями. Арктур давал интервью, где рассказывал, как его лидерство и рациональный подход спасли группу. Он писал диссертацию о «кризисном менеджменте в экстремальных условиях». Кассандра разрабатывала программу по моделированию поведения толпы.
Марк отказался от всех интервью. Он поступил в обычную школу, подальше от гениев и академий. Иногда он выезжал с отцом в лес, на охоту. Там он чувствовал себя на своем месте.
Однажды, уже год спустя, он случайно встретил Арктура на научной выставке. Тот был с группой поклонников, блестяще что-то объяснял. Их взгляды встретились на секунду. Во взгляде Арктура не было ни вины, ни раскаяния. Было лишь холодное, аналитическое любопытство, как к интересному, но закрытому кейсу.
Марк отвернулся и ушел. Он понял, что спасся с того острова физически. Но некоторые так навсегда и остались там, в джунглях собственного высокомерия, пленниками своего блестящего, бесчеловечного ума. Они выжили, но так и не стали людьми. И в этом была самая горькая ирония их спасения.
Слоганы в синапсах
В Метрополисе Вкуса мысль была товаром, а разум – рынком. С младенчества каждому гражданину вживляли «Нейро-Линзу» – крошечный интерфейс, который тонировал реальность в цвета брендов и нашептывал неслышимые ухом, но ясные сознанием слоганы. Это называлось «Фоновым Удовольствием». Общество делилось на касты: «Криэйторы» – аристократия, создававшая слоганы и жившая в стерильном, сияющем квартале «Акрополь»; «Потребители» – основная масса, обитавшая в «Спиралях» – гигантских жилых комплексах, чьи стены были сплошными рекламными экранами; и «Аналоги» – маргиналы, по каким-то причинам оставшиеся без Линз, ютящиеся в подземных «Туннелях Забвения».
Государство и корпорации слились в единый организм – «Синдикат Вкуса». Его девиз, вшитый в подкорку каждого: «Покупаешь – значит, существуешь. Выбираешь – значит, свободен».
Лео был идеальным Потребителем. Он работал оператором «Виртуального конвейера», собирая в очках дополненной реальности образы товаров. Его жизнь была чередой безотчетных желаний. Увидев на «стене» своей квартиры новый гаджет, он чувствовал приятное покалывание в висках и слышал внутренний голос: «Смартфон «Nexus-7»: твои мысли заслуживают идеального проводника». И он покупал. Его крошечная квартира была завалена коробками с ненужными вещами, которые приносили ему короткие всплески «Фонового Удовольствия».
Однажды утром, по дороге на работу, его накрыла новая волна. Перед его мысленным взором всплыл образ идеального, геометрически безупречного квадратного апельсина. И голос, бархатный и властный: «Апельсин «Квадра»: совершенство имеет форму».
Желание было мучительным, физическим. Он свернул к ближайшему супермаркету «Март». Но «Квадра» не было в наличии. Апдейт еще не дошел до складов. Лео стоял у полки с обычными, круглыми апельсинами, испытывая когнитивный диссонанс. Они казались ему уродливыми, несовершенными. Раздражение, редкое и непривычное, поднималось в нем. В этот момент его оттолкнул высокий мужчина в потрепанном плаще.
«Успокойся, друг. Ты не голоден. Ты зомбирован», – прошипел незнакомец и растворился в толпе.
Лео замер. Слова «зомбирован» не было в его лексиконе. Оно было как пощечина. Впервые за долгое время внешняя информация прорвалась сквозь его «Фоновое Удовольствие». Это было больно. И странно… интересно.
Случай в «Марте» не давал ему покоя. Лео начал замечать странности. Его соседка, миссис Элси, плакала, не в силах перестать покупать очередную модель кухонного комбайна, хотя жила на одну пенсию. Его коллега на конвейере, парень по имени Рой, мог часами повторять один и тот же слоган про энергетический напиток, словно мантру.
Лео начал искать. В закоулках глобальной нейросети, в тех местах, куда «Криэйторы» предпочитали не заглядывать, он нашел слухи. О «Чистильщиках». О людях, которые могли «почистить» Нейро-Линзу, удалив навязанные слоганы.
Встреча произошла в заброшенном парке, где ржавые качели шептались под ветром. Тот самый человек в плаще назвался Каином.
««Фоновое Удовольствие» – это наркотик, Лео, – сказал он, его глаза были усталыми, но ясными. – Он блокирует твои настоящие эмоции, подменяя их суррогатом. Ты не хочешь этот квадратный апельсин. Тебе внушили, что ты его хочешь. Синдикат не продает товары. Он продает желания. А настоящая личность начинается с права на собственное «не хочу»».
Каин показал ему устройство, похожее на старый смартфон с парой проводов. «Деинсталлятор». Он объяснил, что процесс болезненный и опасный. Синдикат карает за это как за «информационный терроризм».
Решение далось Лео тяжело. Жизнь в блаженном неведении была так удобна. Но призрак свободы, странный и пугающий, уже поселился в нем.
Он пришел в убежище Каина – старую, заброшенную библиотеку, где бумажные книги считались диковинкой. Каин подключил «Деинсталлятор» к порту Нейро-Линзы за ухом Лео.
Боль была огненной. Это было не физическое ощущение, а ментальное. Он чувствовал, как с его сознания сдирают привычные, яркие этикетки. Воспоминания обретали новые, порой горькие, оттенки. Он вспомнил, как впервые купил дорогие часы, не потому что они ему были нужны, а потому что ему нашептали: «Время «Тик-Так»: ты – то, что ты носишь». И он чувствовал тогда не радость, а пустоту.
Процесс прервал сигнал тревоги. Их выследили. Ворвались бойцы «Нейро-Патруля» в сияющих шлемах. Каин успел выдернуть провода и столкнуть Лео в потайной лаз. «Беги! Помни ощущение!»
Лео бежал по темным туннелям, его разум был чистым, болезненно острым и невероятно одиноким. Он впервые за много лет думал своей головой. И это было страшно.
Он пытался вернуться к старой жизни, но не мог. Рекламные слоганы теперь воспринимались как навязчивый, идиотский шум. Он видел, как его друзья и коллеги, словно марионетки, реагируют на эти команды. Он стал изгоем в своем же мире.
Отчаявшись, он нашел способ связаться с Каином. Тот был в ярости. «Из-за тебя схватили пол-ячейки! Это была ловушка! Твое «пробуждение» было спланировано!»
Оказалось, «Синдикат Вкуса» не просто подавлял инакомыслие. Он его изучал. «Чистильщики» были для них полигоном для тестирования новых, более изощренных форм контроля. Пробуждение Лео было частью эксперимента под названием «Осознанный выбор».
Его нашли. Но не арестовали. К нему пришел сам Аркадий Вектор, главный «Криэйтор» Синдиката. Он выглядел как добрый дедушка и пах дорогим парфюмом.
«Лео, мой мальчик! Какая потрясающая работа у тебя получилась! – сказал он, усаживаясь в его заваленной хламом квартире. – Ты прошел через боль очищения. Поздравляю. Теперь ты готов к следующему уровню».
Вектор объяснил, что старый метод – грубый. Новый потребитель должен чувствовать себя творцом, бунтарем. «Мы не будем вшивать тебе слоганы, Лео. Мы дадим тебе инструмент. Ты сам будешь выбирать, какие мысли сделать приятными. Мы продаем не товары, а смыслы. А ты… ты будешь нашим первым «Свободным Потребителем». Твоя история «пробуждения» станет лучшей рекламой новой системы».
Это был самый изощренный способы порабощения – продать человеку его же свободу, упаковав ее в модный бренд.
Лео сломался. Борьба казалась бессмысленной. Система была гибче, умнее и циничнее любого сопротивления.
Через месяц на всех экранах Метрополиса Вкуса появилась новая кампания. Под лозунгом «Будь настоящим. Выбирай осознанно» продвигалась линия одежды, гаджетов и еды от нового бренда – «Аутентика». Лицом кампании был Лео. Его история «духовных поисков» и «обретения себя» была упакована в тридцатисекундный ролик.
Люди, уставшие от навязчивой рекламы, с восторгом покупали товары «Аутентики». Они чувствовали себя бунтарями, индивидуалистами. Они не знали, что сам бренд «аутентичности» и их «осознанный выбор» были самым гениальным творением Аркадия Вектора. Нейро-Линзы нового поколения мягко направляли их к «правильным» товарам, даруя ощущение глубины и смысла.
Лео, теперь консультант «Синдиката», жил в «Акрополе». У него были деньги, слава и новая, «аутентичная» Нейро-Линза. Иногда, по ночам, он выключал ее и сидел в тишине. Он вспоминал боль очищения, лицо Каина и вкус того самого, некупленного квадратного апельсина. Он был свободен. Свободен играть по правилам, которые он ненавидел. Свободен быть лицом той системы, которую хотел уничтожить.
И глядя на сияющий огнями Метрополис, он понимал, что победил не он. Победил «Нейро-маркетинг», сумевший продать даже саму идею сопротивления. И от этой мысли было гораздо больнее, чем от любого «Деинсталлятора».
Декрет о лавочном равноправии
В городе Благоустроенске, носившем это имя с упрямой иронией, был Центральный Парк. Он был визитной карточкой, его фотографировали для открыток, но жил он по строгим, негласным законам. Главной осью этого мира были две скамейки, стоявшие на центральной аллее, напротив друг друга.
Слева – Скамейка Элиты. Литая, с витыми узорами, отполированная до ослепительного блеска. Ее деревянные лакированные планки никогда не знали ни пыли, ни птичьего помета. На спинке красовалась бронзовая табличка: «Для слуг народа и почетных граждан». Справа – Скамейка Всеобщая. Старая, покосившаяся, с облупившейся краской и двумя зияющими дырами вместо планок. Ее табличка, криво привинченная одним шурупом, гласила: «Для всех остальных».
Между ними пролегала невидимая, но абсолютно непроницаемая граница. Они были зеркалами двух вселенных, которые смотрели друг на друга, но не смешивались.
Скамейка Элиты начинала свой день с визита Статского Советника Громова. Он был воплощением системы – тучный, важный, с лицом, выражающим легкую брезгливость к окружающему миру. Он не садился, а восседал, положив трость с золотым набалдашником рядом. Его разговоры по телефону были тихими директивами: «Проведите, обеспечьте, доложите». Скамейка Всеобщая в это время слушала старушку Анну, которая, посапывая, кормила воробьев крошками из старой сумки. Ее разговоры с собой были монологами о подорожавшей крупе и болях в спине.
Позже на Скамейке Элиты появлялась Дама с Собачкой карликовой породы. Она говорила подруге о новом курорте, а ее взгляд скользил по Скамейке Всеобщей с таким же интересом, как по дереву или клумбе. В ответ на Скамейке Всеобщей молодой рабочий Алексей, в замасленной спецовке, сжимал кулаки, глядя на сияющую лакированную древесину напротив. Он не говорил ничего, но его молчание было громче любого слова.
Скамейки не умели говорить, но они вели диалог через тех, кто на них сидел. Через прикосновения, вздохи, оброненные фразы.
Скамейка Элиты знала мир как совокупность правил, привилегий и эстетики. Она чувствовала тяжесть дорогих тканей, слышала обрывки разговоров о «неэффективности плебса» и «бремени ответственности». Ей было удобно, но одиноко. Ее блеск был холодным.
Скамейка Всеобщая знала мир усталости, надежды и мелких обид. Она чувствовала грубость протертой джинсовой ткани, впитывала соль человеческого пота, слышала шепот о несправедливости и детский смех, который был ей дороже любого лака. Ей было неудобно, но по-своему тепло. Ею жили.
Однажды Алексей, сидя на Скамейке Всеобщей и глядя на Громова, громко, почти вызовом, сказал своему товарищу: «Вот, Петрович, интересно, у них там жопа из другого материала, что ли? Или закон всемирного тяготения на них не действует?»
Громов услышал. Он не повернул головы, но его спина выпрямилась еще больше. Он понял, что это не просто вопрос комфорта. Это вопрос идеологии.
Переломным моментом стал дождливый день. Статский Советник Громов, спеша на заседание, поскользнулся на мокрой плитке и, пытаясь сохранить равновесие, наступил ногой на территорию Скамейки Всеобщей. Он не сел, просто коснулся ее края. Но этого было достаточно.
«Черт! – вырвалось у него, и он с отвращением посмотрел на подошву своего ботинка, будто наступил в нечто неописуемое. – Немедленно привести в порядок!»
На следующий день вокруг Скамейки Всеобщей появилась бархатная оградка с табличкой: «Санитарная обработка. Посадка временно запрещена».
Алексей, пришедший отдохнуть после смены, увидел это. Он стоял под дождем, сжимая в кармане кусок хлеба, который собирался скормить голубям, и смотрел на пустующую, уродливую, но свою скамейку, до которой нельзя было дотронуться. А напротив, под своим личным зонтиком, сидел Громов, с наслаждением потягивая кофе из термоса. Их взгляды встретились. В глазах Алексея была ярость. В глазах Громова – спокойное торжество власти.
В тот вечер Алексей не пошел домой. Он зашел в гараж, взял монтировку и пару тросов.
Ночь была темной и безлунной. Под шум ливня, который смывал все следы, Алексей и его друг Петрович проделали работу. Это был не акт вандализма. Это был акт восстановления справедливости, грубый и прямолинейный, как удар кузнечного молота.
Они открутили старую, покосившуюся Скамейку Всеобщую от ее ржавых болтов. Потом проделали то же самое с сияющей Скамейкой Элиты. С грохотом, который заглушался грозой, они поменяли их местами.
Теперь на лучшем месте, под старым дубом, стояла облупленная, дырявая скамейка с табличкой «Для всех остальных». А на заброшенном, продуваемом всеми ветрами участке красовалась новенькая, с бронзовой табличкой «Для слуг народа».






