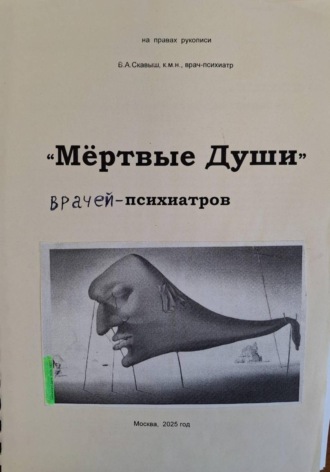
Полная версия
«Мёртвые души» психиатров (о жизни, творчестве, психическом здоровье Н.В.Гоголя)
19 февраля 1852 года. Приехал опять врач Тарасенков. Гоголь лежал на диване, в халате, в сапогах, отвернувшись к стене. Против его лица – образ Богоматери, в руках чётки. Доктор Тарасенков взял руку больного, щупал пульс. Гоголь сказал: “Не трогайте меня, пожалуйста.” Осматривавший больного врач Ф.И.Иноземцев подозревал тиф. Приехал ещё другой доктор (Аркадий Альфонский), он советовал магнетизирование (гипноз), чтоб подавить волю Николая Васильевича, внушить принимать больше пищу. Вечером того же дня пришли врачи Александер Овер и Константин Сокологорский. Последний начал магнетизирование. Когда он положил руку больному на голову, потом под ложечку, начав пассы, Гоголь сказал: “Оставьте меня.” Продолжать гипноз было бесполезно. Гоголь, перебирая чётки, творил Иисусову молитву. Вечером пришёл доктор Клименков и кричал на Гоголя, как на глухого и безумного, насильно удерживал его руку, выпытывая: “Что болит?!” Гоголь терял терпение и досадовал на Клименкова, умоляющим голосом повторяя: “Оставьте меня.” Завернулся в одеяло, спрятал руку. Клименков рекомендовал кровопускание, лёд на голову, завёртывание в мокрые простыни, но Тарасенков просил собрать завтра консилиум.
20 февраля. На консилиуме собралось несколько врачей (интересующихся отсылаю к рукописи А.Т.Тарасенкова). Медики давили больному живот, который был так мягок, что через него можно было ощупывать позвонки. Гоголь стонал, кричал, молил с напряжением: “Не тревожьте меня, ради Бога!”85[1]81 Доктора решили большинством голосов поставить пиявки к носу, сделать холодное обливание головы в тёплой ванне. Когда больного раздели, усадив в ванну, он стонал, говоря, что это делают они напрасно, умолял снять пиявки, поднять их ото рта. Мольбы не трогали эскулапов: пиявок не сняли. Чтоб Гоголь не мог их убрать, руки его держали силою, обращаясь с ним как “с сумасшедшим”, не владеющим собой. Больной стонал от водных процедур (ему лили на голову холодную воду). Вспомнил ли Николай Васильевич в тот час о Поприщине: “Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! Что они делают со мной! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я им сделал? За что они мучают меня? Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и всё кружится предо мною. Спасите меня! Возьмите меня! Дайте мне тройку быстрых, как вихорь коней! …” (III, с. 214)
Есть свидетельские показания очевидца последних мук Гоголя, принимавшего непосредственное участие в том лечении, – фельдшера Зайцева, – крепостного человека симбирской помещицы Е.А.Беляковой. Его подлинная рукопись хранится в Рукописном фонде Литературного музея Москвы. Она известна гоголеведам. Е.С.Смирнова-Чикина в статье “Легенда о Гоголе” (журнал “Октябрь”, 1959, № 4) пересказала (с неточностями) её содержание. Цитировала из неё несколько строк А.Н.Белышева в статье “Тайна смерти Гоголя” (журнал “Нева”, 1967, № 3). Кроме рукописи (подлинного документа в суде истории), воспоминания фельдшера А.В.Зайцева опубликованы в “Симбирских Губернских Ведомостях” № 22 от 23 марта 1902 года под псевдонимом Servus Servorum Dei (Раб рабов Божьих – латин.) и были частично перепечатаны московской газетой “Столичная молва” № 55 от 27 апреля 1909 года под заглавием “Из воспоминаний о Гоголе”. Итак, говорит свидетель А.В.Зайцев:
“В 1852 году судьба забросила меня в Москву с больной госпожой моей Е.А.Беляковой, отправленной из Симбирска, после двухлетнего лечения нашими симбирскими знаменитостями, в Первопрестольную. Иноземцев86[1]*, тогдашнее медицинское светило первой величины, осмотрев больную и пожав плечами, сказал (конечно, не при больной), что лечить уже поздно, что больная безнадёжна и что здесь медицина бессильна, и отказался от лечения. Но в Москве нашлись тогда ещё знаменитости – это Овер и Клименков87[2]**, и они начали лечение; Овер и Клименков ездили к больной каждый день, ну, словом, они “старались”. Больную я привёз в Москву в январе, а в конце августа Овер и Клименков посоветовали ей ехать в деревню лечиться сельским воздухом, и я увёз из Москвы полуживой скелет, с пустой шкатулкой, где больная вскоре и отправилась к праотцам.
В один из визитов врачи нашли нужным припускать больной к известному месту пиявки; это было возложено на меня как на фельдшера, что я и выполнил в присутствии врачей. Благодаря, быть может, этой случайности, я имел возможность видеть дней за пять до смерти нашего великого писателя Гоголя; случилось это по следующим обстоятельствам. Понравились ли мои манипуляции с пиявками около больной моей, или судьбе было угодно, чтобы я увидел Николая Васильевича, – только на другой день, после обычного визита к больной, Овер просил её, чтобы она позволила мне ехать к одному больному, которому врачи нашли также нужным припустить пиявки. По получении разрешения я отправился на Садовую88[1]*, в дом графини Толстой, где в то время жил Гоголь. Когда я явился к больному, – Овер и Клименков были уже там, и мы начали свои “истязания”. Как ни сопротивлялся, как ни молил, чуть не со слезами, Гоголь врачей, чтобы они оставили его в покое, но всё было напрасно: медикусы и не думали отступать, а делали своё. Когда я припускал к носу Гоголя пиявки, больной стонал, даже кричал, но Овер и Клименков держали его за руки во всё время, пока пиявки высасывали кровь, словом, “мы усердствовали” (да простит мне тень великого Гоголя! Я не повинен был в крови этого праведника!). Когда “истязания” окончились, – врачи уехали, я же оставался при больном до прекращения кровотечения. Спустя некоторое время больной успокоился и спросил меня: кто я? Я в коротких словах передал ему свою незатейливою автобиографию. Будучи им обласкан, я осмелился сказать ему, что читал некоторые из его сочинений и что вообще люблю почитать и даже пробую писать, конечно, для себя, и что у меня написано маленькое стихотворение на смерть моей давно умершей матери. Гоголь просил, чтобы я прочёл его и сделал некоторые поправки. Вот эти четыре строки стихотворения:
А этой скорби будет много
В печальной жизни сироты,
Но будет мать молить у Бога,
Чтоб нёс с терпением её ты …
Подчеркнув кое-что карандашом, Николай Васильевич со слезами в голосе сказал: “Да, скорби будет очень много”; затем, посмотрев на меня долгим, испытующим взглядом, в глазах его стояли слёзы, он тихо промолвил: “Читай больше, друг мой”. Николай Васильевич подарил мне томик своих сочинений89[1]*, в котором две повести: “Портрет” и “Невский проспект”, и, взявши со стола ермолку, шитую серебряными нитями по голубой шёлковой материи, подал её мне со словами: “Возьми это на память обо мне” и тихо, тихо сказал “прощай” и повернулся к стене лицом; я заметил, что Гоголь плакал. Я вышел от него тоже с глазами, полными слёз … На четвёртый день я услыхал, что Гоголь умер … Ермолку эту я храню, как святыню, а книга, подаренная им, погибла во время пожара.
На следующий затем день, во время обычного визита, Овер рассказывал при мне больной моей, как они с Клименковым измучились с этим больным Гоголем90[1]**:
– О! это сумасшедший какой-то! И этого человека считают многие талантом, а сочинения его превозносят чуть не до небес, в особенности эти его “Умирающие души”, – со смехом в голосе сказал Овер.
– “Мёртвые души” написал Гоголь, – с затаённой злобой в душе осмелился возразить я Оверу.
– Но это всё равно, “умирающий или мёртвый душ”, – с иронией сказал эскулап.
Считаю не лишним передать здесь виденный мною факт, которого я был невольным свидетелем. После одного визита к моей больной Овер, проходя со мной по анфиладе комнат, делал мне некоторые наставления относительно больной, и когда мы дошли до передней, доктор, развернув зажатый в правой руке гонорар, вдруг остановился с нахмуренным челом и приказал лакею подать ему стакан воды; лакей подал на подносе требуемое. Овер взял стакан и, сделавши два глотка, бросил на поднос бумажку с заметным неудовольствием, сказав ему: “Это тебе за холодный вода”. Лакей подал ему дорогой енот, доктор вышел на крыльцо в сопровождении, сел на пару сытых рысаков, запряжённых в дышло, лакей застегнул богатую медвежью полость саней, и лошади быстро умчали его от подъезда … Я передал, конечно, виденное мною в лакейской больной, причём выяснилось, что она ошибкой дала доктору вместо пятидесяти рублей за визит только десять рублей. Больная страшно перепугалась, боясь, как бы врачи не прекратили своих визитов к ней, и в тот же день я ехал к Оверу с пакетом, в котором вёз ему пятьдесят рублей. Визиты врачей продолжались, как я сказал выше, до конца августа. Мы выехали из Москвы с еле дышащей больной и с пустым кошельком, оставив в Москве только в аптеке и врачам пятнадцать тысяч рублей, – недаром говорят, что Москва деньгу любит.”91[1]82
Пять веков назад Эразм Роттердамский заметил: “между самими науками превыше всего ценятся те, которые ближе всего стоят к здравому смыслу, иначе говоря, к Глупости. Голодают богословы, мёрзнут физики, терпят посмеяние астрологи, живут в пренебрежении диалектики. Только муж врачеватель многим другим предпочтён. Но и среди врачей – кто невежественнее, нахальнее, безрассуднее остальных, тому и цена выше даже у венчанных государей. Да и сама медицина, в том виде, в каком многие ею теперь занимаются, не что иное, как искусство морочить людей, – нисколько не хуже риторики.”92[1]83
Ночью с 20 на 21 февраля Гоголь впал в агонию. Елизавета Фоминична Вагнер, тёща Погодина, на руках которой умирал писатель, свидетельствует: “по-видимому, он не страдал, ночь всю был тих, только дышал тяжело; к утру дыхание сделалось реже и реже, и он как будто уснул…”93[1]84 Последние слова Гоголя, сказанные в ясном сознании были: “Как сладко умирать!”94[2]85 В одиннадцатом часу ночи Гоголь стал забываться, по временам что-то шептал, затем ясно, громко произнёс: “Лестницу поскорее, давай лестницу!” Это самые последние слова, сказанные в агонии. Согласно исследованию А.Рождествина: “Подобные же слова о лестнице сказал перед смертью святой Тихон Задонский. В статье “Светлое Воскресенье” Гоголь тоже говорил о лестнице: “Бог весть, может быть, за одно желание любви воскрешающей уже готова сброситься с небес нам лестница, и протянуться рука, помогающая взлететь по ней.”95[3]86 Спокойно, просветлённо, примирённо со своей совестью отлетела душа от тела мученика за честное служение на поприще слова, на ниве просвещения народа. Джон Донн начал знаменитое “Расставание, возбраняющее печаль” аналогичным образом:
Как шепчет праведник: “Пора!” –
Своей душе, прощаясь тихо,
Пока царит вокруг одра
Печальная неразбериха,
Вот так безропотно сейчас
Простимся в тишине – пора нам!
Кощунством было б напоказ
Святыню выставлять профанам…96[1]*
Жизненный путь самого сэра Донна, короля всемирной монархии ума, если не житие, то повесть о раскаявшемся грешнике, сменившем элегии, сонеты и сатиры на проповеди в лондонском соборе апостола Павла. И Гоголь знал, что искусство есть дорога к добру и красоте, подготовительные шаги к усвоению Евангелия. Искусство помогает жить и не соблазниться лукавством мира сего, в котором властвует зло, а добро гонимо и притесняемо. Неумолчно звучит через языковые барьеры, сквозь века, Слово о любви, что сильнее смерти. Ту духовную преемственность, думаю, англичанин Джон Донн звал “нитью золотой”, которая не рвётся, сколь не истончится.
Протоиерей Матфей Константиновский, словно предвидя будущую клевету в отношении себя психопатологов и литературоведов, сказал Фёдору Образцову: “Будут бранить меня, ох, сильно будут бранить. – За что же? Ваша жизнь такая безупречная! – Будут бранить, будут. – Не за Гоголя ли? – Да, и за Гоголя, и за всю жизнь мою. Но я не раскаиваюсь в жизни моей, не раскаиваюсь и за отношения мои к Николаю Васильевичу”. Автор воспоминаний, Ф.Образцов пишет: “Свидетельствую совестию, что это точные слова о.Матфея, сказанные им за три месяца до своей смерти и лично мною слышанные”.97[1]87 Где факты, что якобы отец Матфей “ошибочно толковал болезнь Гоголя в ложном духовно-мистическом аспекте”98[2]88? Кроме умо- зрительных интерпретаций у психиатра Д.Е.Мелехова, достоверных клинических фактов эндогенного «психоза» Гоголя нет. С примечанием коллеги Мелехова о пагубном лечении согласен: “при отказе от пищи и прогрессирующем истощении врачи применяли с лечебной целью пиявки, кровопускания, мушки, рвотные средства вместо укрепляющего лечения, искусственного питания”.
Цитирую В.В.Набокова: “…лечение, которому его подвергли – мощные слабительные и кровопускания, – ускорило смертельный исход: организм больного был и без того подорван малярией и недоеданием. Парочка чертовски энергичных врачей, которые прилежно лечили его, словно он был просто помешанным (несмотря на тревогу более умных, но менее деятельных коллег), пыталась добиться перелома в душевной болезни пациента, не заботясь о том, чтобы укрепить его ослабленный организм. Лет за пятнадцать до этого медики лечили Пушкина, раненного в живот, как ребёнка, страдающего запорами. В ту пору ещё верховодили посредственные немецкие и французские лекари, а замечательная школа великих русских медиков только зачиналась. Учёные мужи, толпящиеся вокруг “мнимого больного” со своей кухонной латынью и гигантскими клистирами, перестают смешить, когда Мольер вдруг выхаркивает предсмертную кровь на сцене. С ужасом читаешь, до чего нелепо и жестоко обходились лекари с жалким, бессильным телом Гоголя, хоть он молил только об одном: чтобы его оставили в покое. С полным непониманием симптомов болезни и явно предвосхищая методы Шарко, доктор Овер погружал больного в тёплую ванну, там ему поливали голову холодной водой, после чего укладывали его в постель, прилепив к носу полдюжины жирных пиявок. Больной стонал, плакал, беспомощно сопротивлялся, когда его иссохшее тело (можно было через живот прощупать позвоночник) тащили в глубокую деревянную бадью; он дрожал, лёжа в кровати, и просил, чтобы сняли пиявок, – они свисали у него с носа и попадали в рот. Снимите, уберите! – стонал он, судорожно силясь их смахнуть, так что за руки его пришлось держать здоровенному помощнику тучного Овера.”99[1]89
Александр Овер лечил Гоголя от «менингита». Жаль, что свой "менингит" Овер не вылечил предварительно, как учит картина “Извлечение камня глупости” Иеронима Босха.
Глава 3. Симулякры о личности христианина
Смерть Гоголя родила множество слухов, сплетен, что он морил себя голодом. На том настаивал Н.Г.Чернышевский. Вот строки письма И.С.Тургенева к И.С.Аксакову: “Скажу вам без преувеличения, с тех пор как я себя помню, ничего не произвело на меня такого впечатления, как смерть Гоголя… Эта страшная смерть – историческое событие – понятна не сразу; это тайна, тяжёлая грозная тайна… Трагическая судьба России отражается на тех из русских, кои ближе других стоят к её недрам – ни одному человеку, самому сильному духу, не выдержать в себе борьбу целого народа – и Гоголь погиб! Мне, право, кажется, что он умер потому, что решился, захотел умереть, и что это самоубийство началось с истребления “Мёртвых душ”…”100[1]90
С.Т.Аксаков и князь П.А.Вяземский, среди современников Гоголя, были наиболее деликатными и осторожными с выводами о личности другого «я», не такого как «ты». Строфы П.А.Вяземского взяты в эпиграфе, но повторю часть:
Духом схимник сокрушенный,
А пером Аристофан.
С ним и смеёмся над собой,
И над собой мы горько плачем.
…Жизнь твоя была загадкой,
Нам загадкой смерть твоя.
Израильский литературовед Михаил Вайскопф считает, что смерть Н.В.Гоголя “была типичным замаскированным самоубийством гностика, разрывающего плотские узы”.101[1]91 Православный пост – не маскировка самоубийства. Как не маскируй, в самоубийстве – умысел убить себя. Приписывать Гоголю эту мысль ни Тургенев, ни Вайскопф не имеют научных оснований. То, что Гоголь правильно понял душеспасительный смысл поста, свидетельствуют его многочисленные выписки из творений отцов Церкви. О том говорят его собственноручные пометы на страницах Библии, принадлежавшей Николаю Васильевичу, хранящейся ныне в Рукописном отделе Пушкинского Дома. Это – научные факты в посмертной психиатрической экспертизе.
До сих пор нет полной биографии Н.В.Гоголя, хотя было много собрано материала для неё П.А.Кулишом102[1]92 и В.И.Шенроком.103[2]93 Книга «Гоголь в жизни» В.В.Вересаева, также, увы, не является полной, представляя собой монтаж и субъективный взгляд, как справедливо подчеркнул И.П.Золотусский в 1990 году предисловии к переизданию текста Вересаева: “И тут мы сталкиваемся с ущербностью монтажа, с неполнотой монтажа, который, имея свои преимущества, всё же уводит нас от полной истины, от всестороннего взгляда на вещи. Вересаев смотрит на «Выбранные места…» как на ошибку, его цель – подвести нас к признанию справедливости инвектив Белинского, который назвал факт публикации «Выбранных мест..» падением, а в идеях Гоголя усмотрел болезнь, гордыню и желание «небесным путём достичь земных целей» …”104[3]94
Нельзя согласиться с идеей М.Вайскопфа, что отец Матфей был “православный манихей”, а Гоголь не мог “излечиться от того страха перед Богом, который пронизывал всё его существо с детских лет, а позднее приобрёл гностическое выражение в его произведениях”.105[1]95 Никогда у Гоголя не было страха Всевышнего, он ещё в Нежине хорошо учил Закон Божий. Удивительно, потому, читать у Вайскопфа о «гностике», разрывающем плотские узы, с другой стороны, желавшем “уберечь себя от загробного холода, который он так давно предчувствовал”.106[2]96
Гностики – мыслители первых веков после Р.Х.. Гностицизм есть сплав греческой философии, иудаизма, восточных религий (особенно, зороастризма, вавилонских мистериальных культов), как якобы истинное познание мира ( написано по-гречески).
Исходным пунктом гностицизма, отличающим его от православия, является дуализм духа и материи. Верховное существо гностик представлял началом света и добра, а материю самостоятельным независимым началом, не менее могущественным, чем Бог. В нюансах взгляда на свойства материального начала гностики расходились между собой (платоники, зороастрийцы, александрийцы, сирийцы). По учению гностиков жизнь – борьба духовного и материального начал, постоянная битва добра и зла. Якобы дух стремится освободиться от уз материи, материя пытается удержать и связать дух. Гностическая ересь входит внешне в соприкосновение с верой во Христа, извращая смысл веры дуализмом и антагонизмом. Лицеисту Гоголю это лучше моего рассказал в Нежине священник (Закон Божий).
Гоголю приписывали мысли о самоубийстве. На этот “симптом” Баженова и Мелехова есть контраргумент в дневнике Екатерины Александровны Хитрово. 27 января 1851 года она записала слова Гоголя в связи обсуждением Евангелия: “Претерпевый же до конца, той спасется” (Матфея 10, 22; 24, 13; Марка 13, 13) На фразу Е.А.Хитрово: “Замечательный стих, единственный, который против самоубийства.” – Гоголь возразил тут же: “Это такой нелепый грех, что невозможно было Христу о нём говорить. К чему?”107[1]97
Психиатр Д.Е.Мелехов писал: “Состояние настолько тяжёлое, что повеситься или утопиться кажется ему единственным выходом. “Молитесь, друг мой, да не оставит меня Бог в минуты невыносимой скорби и уныния.”108[1]98 Здесь речь о письме Гоголя к П.А.Плетнёву от 20 февраля 1846 года, где сказано: “…весь минувший год так был тяжёл, что я дивлюсь теперь, как вынес его. Болезненные состояния до такой степени (в конце прошлого года и даже в начале нынешнего) были невыносимы, что повеситься или утопиться казалось как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение. А между тем Бог был так милостив ко мне в это время, как никогда дотоле. Как ни страдало моё тело, как ни тяжка была моя болезнь телесная, душа моя была здорова;” (XIII, с. 38). Обрывочная цитата Мелехова, помещённая обратно в ткань текстового окружения, зазвучит, наоборот, оптимистично. Сонет № 66 Шекспира звучал бы суицидно без двух последних строк, но две строки о любви (к реальной даме) меняют смысл сонета на жизнеутверждающий гимн Любви, дар Бога за несение своего креста по via dolorosa земной юдоли. Человек “потрясавший копьём” был счастлив, любил. Шекспироведы до сих пор не установили личность англичанина, но, зато, понятно ли ложное толкование психиатра Д.Е.Мелехова? Цитату нужно понять в контексте, а не произвольно интерпретируя выхваченную часть высказывания, кусок предложения. Игнорировать и запятую (знак препинания), – ошибка герменевтики
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
0
1 Гиппократ “Закон.” Избранные книги. Пер. с греч. В.И.Руднева. – М., 1994, с. 93.
1
2 Ломброзо Ц. Гениальность и помешательство. Пер. с 4-го итал. изд.. – СПб., 1892, с. 82.
2
* Nullius in verba – Ничего со слов (лат.); девиз Royal Society in London, одной из старейших научных академий Европы.
3
3 Баженов Н.Н. Болезнь и смерть Гоголя // Публичное чтение в годичном заседании Московского общества невропатологов и психиатров. – М., 1902.
4
4 Чиж В.Ф. Болезнь Н.В.Гоголя. – СПб., 1904, 196 стр.
5
** Патография – биография, написанная с позиции психопатологии и освещающая жизни личности, её творчество, а также взаимосвязь и взаимовлияние творчества и психической болезни.
6
5 Каченовский В.В. Болезнь Гоголя (критическое исследование доктора Каченовского статьи “Болезнь и смерть Гоголя” Н.Н. Баженова). – СПб., 1906, 27 стр.
7
6 Каченовский В.В. Болезнь Гоголя (критическое исследование доктора Каченовского статьи “Болезнь Гоголя” профессора Чижа). – СПб., 1906, 118 стр.
8
7 Ермаков И.Д. Очерки по анализу творчества Н.В. Гоголя. – М. – Пг., 1924.
9
8 Ходасевич В. Книги и люди. Курьёзы психоанализа. // Возрождение. – Париж, 1938.
10
9 из речи защитника в суде по делу братьев Карамазовых // Достоевский Ф.М. Собр. сочин. в 10 томах. Том 10-й. – М., 1958, с. 285.
11
10 Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. – М., 1976, с. 516.
12
11 Сегалин Г.В. Шизофреничекая психика Гоголя. // Клинический архив гениальности и одарённости. Том 2, вып. 3. – Свердловск, 1926, с. 263 – 365.
13
12 Галант И.Б. Эвроэндокринология великих русских писателей. // Клинический архив гениальности и одарённости. Том 3, вып. 1. Без места изд., 1927, с. 56 – 65.
14
13 Личко А. Как умер Гоголь. // Наука и религия. – М., 1966, № 12, с. 80 – 87, и там же 1967, № 1, с. 137 – 141. Та же статья: // Мир человека. – М., 1976, с. 123 – 134.
15
14 Молохов А.Н. O паранойе у Н.В.Гоголя. // Труды Кишинёв. мед. института. Клиника психиатрии.; республ. псих. б-ца № 1 МССР. – Кишинёв, 1967, вып. 2, с. 233 – 246.
16
15 Достоевский , там же, с. 284.
17
16 Достоевский, там же, с. 280.
18
Ясперс К. Общая психопатология. Перев. с нем. – М., 1997, с. 934 – 937.
19
18 Ясперс К. Общая психопатология. Перев. с нем. – М., 1997, с. 30 – 33.
20
19 Ломброзо Гениальность и помешательство. Пер. с 4-го итал. изд. – СПб., 1892, с. 11.
21
20 Мелехов Д.Е. Психиатрия и проблемы духовной жизни. // журнал “Русское Возрождение” – Нью-Йорк, Париж, Москва, 1989, № 47 – 48. // Настольная книга священнослужителя. Том 8. Пастырское богословие. – М.: издание Московской Патриархии, 1988, с. 316 – 319. // Авдеев Д.А. Депрессия как страсть. Депрессия как болезнь. – М., 2001. // Психиатрия и актуальные проблемы духовной жизни. Свято-Филаретовская московская высшая православно-христианская школа. Изд. 2-е. – М., 1997, с. 8 – 61. Далее Мелехов цитируется по этой публикации.

