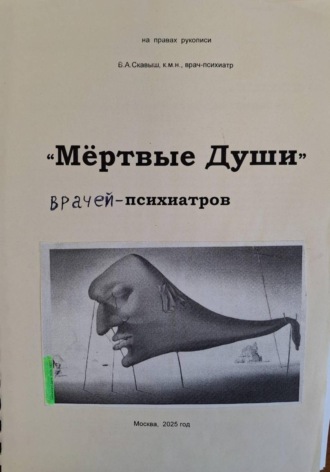
Полная версия
«Мёртвые души» психиатров (о жизни, творчестве, психическом здоровье Н.В.Гоголя)
1) болен дух, здорова душа;
2) здоров дух, больна душа;
3) болен дух, больна душа;
4) здоров дух, здорова душа.
Первый и третий случаи – удел священника, второй и третий – психиатра. Причём, третий случай – самый частый и в келье аскета, и в кабинете светского лекаря. Четвёртый случай – состояние святости, редчайший феномен среди людей, исключение из правила греховности, испорченности человеческой натуры. Известный старец, архимандрит Георгий из Данилова монастыря Москвы различал комбинации, говоря одним: “Ты, деточка, иди к врачу”, иным глаголя: “Тебе у врачей делать нечего.”35[1]33 Были случаи, когда старец, наладив духовную жизнь своего чада, рекомендовал сходить ему к врачу-психиатру и, наоборот, как духовник брал от психиатра человека к себе на духовное лечение. Нельзя лечить болезни души, не зная о целостном, здоровом состоянии и причинах, целостность нарушающих. Помня слова С.С.Корсакова, что “психиатрия из всех медицинских наук наиболее близко ставит нас к вопросам философским”36[2]34, я забочусь о целостном знании человека.
В православной традиции: “в понимании епископом Феофаном и Никодимом Святогорцем… признаком здоровья было единство и гармония всех трёх ступеней (сфер, слоёв) человеческой личности – духовной, душевной и телесной, и это единство и гармония достигаются только при условии преобладающего влияния сферы духа, который должен властвовать над душой и телом. В этом единстве и гармонии – здоровье, норма человеческой жизни. В этом “спасение” (греческое слово означает одновременно и спасение, и здоровье). В болезни, наоборот, видят распад и изоляцию противоположно действующих сил или элементов и слоёв личности.”37[1]35 Ошибка З.Фрейда, на мой взгляд, состояла в том, что он религию посчитал “коллективным неврозом”. Карл Густав Юнг думал иначе. Не одни медицинские учебники, но собственное бессознательное, – должно превратиться в открытую книгу для психиатра: “Подлинная история развития человеческого сознания хранится не в учёных книгах, она хранится в психической организации каждого из нас.”38[2]36
Можно неправильно толковать содержание прочитанного, не заметив даже то, что вы не поняли, что хотел сказал автор. Ложное понимание текста извратит восприятие личности, руку приложившей. Непонимание гения типично, и сытый голодного не разумеет. Гоголя сочли безумным после публикации “Выбранных мест из переписки”. Белинский злился, советуя “спешить лечиться”.
Если текст кажется бредовым, то бред – в тексте или в видящей «бред» личности читателя? Понял ли Белинский, первым бросивший камень, что сказал автор “Переписки”, написанной в эпистолярном жанре русской философии? (к примеру, текст Феофана Затворника “Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться”) Не умри В.Г.Белинский от туберкулёза, интересно было бы узнать каким психопатологическим синдромом кончится его ругань православного духовенства. Поясню примером: “Великий мыслитель Огюст Конт, основатель позитивной философии, впродолжение десяти лет лечился у Эскироля от психического расстройства и затем по выздоровлении без всякой причины прогнал жену, которая своими нежными попечениями спасла ему жизнь. Перед смертью он объявил себя апостолом и священнослужителем материалистической религии, хотя раньше сам проповедовал уничтожение всякого духовенства. В сочинениях Конта, рядом с поразительно глубокими положениями, встречаются чисто безумные мысли, вроде той, например, что настанет время, когда оплодотворение женщины будет совершаться без посредства мужчины.”39[1]37 Сошлюсь на Акакия Акакиевича, хотя не был он значительным лицом среди психиатров: “Почему он усмехнулся, потому ли, что встретил вещь вовсе не знакомую, но о которой, однако же, всё-таки у каждого сохраняется какое-то чутьё, или подумал он, подобно многим другим чиновникам, следующее: “Ну, уж эти французы! что и говорить, уж ежели захотят что-нибудь того, так уж точно того…” А может быть, даже и этого не подумал – ведь нельзя же залезть в душу человека и узнать всё, что он ни думает.”40[2]38 (III, c. 159)
В письме из Парижа от 28 мая (9 июня) 1847 года Владимир Алексеевич Муханов писал: “Отсюда в воскресенье уехал Гоголь, который провёл здесь неделю в одной гостинице с нами. Мы почти каждый день обедали с ним у Толстых, здоровье его совершенно поправилось; он всё время был весел, разговорчив и бодр, одним словом – другой человек, а не тот, которого мы встретили прошлым летом в Остенде. Путешествие его в Иерусалим не совершилось, потому что вырученные за последнюю книгу деньги пришли поздно, а без них не с чем было пуститься в дальний путь. Кстати о книге: удивительно, что после критик, больше жестоких и исполненных остервенения, он не только вовсе не раздражён, но, напротив, покойнее и светлее духом прежнего. Вяземский прислал брату статью свою о Языкове и Гоголе; он один, кажется, из печатных судей понял сочинителя Переписки с друзьями, и объяснил удовлетворительно, почему произошло недоумение между Гоголем и его ценителями по поводу последней книги: невозможно единомыслие при воззрении на предметы с противоположных точек”.41[1]39 Братья Мухановы, как современники Николая Васильевича, видели в нём православного христианина. Гоголь желал этого именно к себе отношения. Матери он писал в июне 1844 года: “И среди самой просвещённой столицы куются и ткутся всякие нелепицы, да и весь человек есть ложь. Я не знаю, какие слухи до вас дошли, но … Старайтесь лучше видеть во мне христианина и человека, чем литератора”. (XII, c. 323 – 324)
Я не спешу интерпретировать “психозом” ежедневные молитвы Гоголя, посещения литургии, чтение отцов церкви, безбрачие, текст “Выбранных мест из переписки с друзьями”, дружбу с духовенством и монахами, составление молитв, паломничество в Палестину, сочинение оригинальных текстов, начиная с «Вечером на хуторе близ Диканьки», наконец, предсмертную записку Николая Васильевича: “Помилуй меня грешного. Прости Господи! Свяжи вновь сатану таинственною силою неисповедимого Креста.”42[1]40
Ясперс утверждал: “Согласно Канту, судебная экспертиза по вопросам вменяемости должна подлежать компетенции философского факультета. С чисто логической точки зрения это, пожалуй, правильно, но на практике такое требование неосуществимо. …здесь не обойтись без знания соматической медицины. Соответственно, именно врач должен заниматься сбором фактических данных, нужных суду. Но сказанное Кантом имеет свою ценность, поскольку постулирует необходимость для компетентного психиатра иметь такую подготовку, которая была бы сопоставима со знаниями, получаемыми на философском факультете. Простое заучивание той или иной философской системы и её механическое применение (с чем неоднократно приходится сталкиваться в истории психиатрии) не могут служить данной цели. Более того, это даже хуже, чем полное отсутствие философской подготовки. Но настоящий психиатр должен усвоить некоторые точки зрения и методы, принадлежащие сфере наук о духе. В психопатологии, как в фокусе, сосредотачиваются методы почти всех наук…”43[1]41
А провозглашение клинического мышления – философия сама по себе. Л.С.Выготский писал: “Но кто рассматривает факты, неизбежно рассматривает их в свете той или иной теории… Факты неразрывно переплетены с философией… без этого факты останутся немы и мертвы.”44[1]42 В монографии “Мышление и речь” подчёркнуто: “Само отсутствие философии есть совершенно определённая философия.”45[2]43 К.Ясперс учил: “тот, кто философствует, должен давать объяснения. Если существование Бога подвергается сомнению, философ должен дать ответ: или он не покидает поля скептической философии, в которой вообще ничто не утверждается и не отрицается, или же, ограничиваясь предметно определённым знанием (что значит – научным знанием), он прекращает философствовать, руководствуясь тезисом: что знать невозможно, о том следует молчать.”46[3]44
Ложно психиатр Д.Е.Мелехов понял взаимоотношения Гоголя с его духовником отцом Матвеем, цитирую: “Его духовный руководитель, не принимая во внимание состояние больного, предъявлял к нему строго аскетические требования… советовал бросить всё и идти в монастырь, а во время последнего приступа привёл Гоголя в ужас угрозами загробной кары…”47[1]45
Данное утверждение исходит из ошибочной трактовки психиатром Мелеховым письма Гоголя к отцу Матфею Константиновскому (24 сентября 1847 года): “Не знаю, сброшу ли я имя литератора, потому что не знаю, есть ли на это воля Божия… Если бы я знал, что на каком-нибудь другом поприще могу действовать лучше во спасенье души моей и во исполненье всего того, что должно мне исполнить, чем на этом, я бы перешёл на то поприще. Если бы я узнал, что я могу в монастыре уйти от мира, я бы пошёл в монастырь. Но и в монастыре тот же мир окружает нас…” (XIII, с.390 – 391) Письмо говорит о монашеских стремлениях Гоголя, но не о том, что именно отец Матфей внушал их. Во-первых, в 1845 году Николай Васильевич предпринял попытку уйти в монахи, до знакомства с отцом Матфеем. Во-вторых, письмо Гоголя за 1847 год было ложно истолковано полвека спустя историком Николаем Платоновичем Барсуковым в том смысле, что якобы отец Матфей “советует Гоголю бросить имя литератора и идти в монастырь.”48[1]46 Фразу, выделенную Барсуковым курсивом, стали брать в кавычки в XX веке совершенно неправомерно как документальное свидетельство. Пастырь говорил писателю иное, что видно из письма Гоголя к А.П.Толстому (август 1847 г.): “слушаться Духа, в нас живущего, а не земной телесности нашей; …оставивши все хлопоты и вещи мира… поворотить во внутреннюю жизнь.” (XII, с. 366)
Последняя встреча Гоголя и отца Матфея была в начале февраля 1852 года в доме графа Толстого. Подробности беседы не известны, но примерное содержание передали врач А.Т.Тарасенков и протоиерей Феодор Образцов. Но нет оснований считать, что пастырь предъявлял чрезмерные требования к пасомому. Отец Матфей в своём последнем письме к Гоголю, единственном дошедшем до нас подлинном документе, на который могу научно опереться, писал: “Человек может и должен расти в вере и благочестии, но постепенно.”49[1]47
Известность получили воспоминания протоиерея Феодора Образцова, что на последней встрече отца Матфея с Гоголем шла речь о литературе. “Отец Матфей как духовный отец Гоголя, – писал он, – взявший на себя обязанность, по мере воспринятой на себя благодати, очистить совесть Гоголя и приготовить его к христианской непостыдной кончине, потребовал от Гоголя отречения от Пушкина. “Отрекись от Пушкина, – потребовал отец Матфей, – он был грешник и язычник”.50[1]48 Однако, позволю высказать сомнение (dubitat Augustinus), что духовник якобы мог называть “язычником” православного Пушкина, хотя бы грешника (все – грешники), тем более просить отречения от человека, если тот не еретик. Пушкин еретиком не был: посещал храм, молился, исповедовался, венчался, крестил детей, после дуэли за честь жены, умирая, покаялся, причастился. Феодор Образцов лично в споре Гоголя с отцом Матфеем не участвовал, следовательно, его строки – не слова из уст пастыря. Опять имеем только косвенные умозрения и мнения. Скорее, в том споре «Пушкин» означал в некоей мере нехристианскую часть словесности. Вероятно, отец Матфей просил отречения не от Пушкина, которого Гоголь лично знал как христианина (стихотворение “Отцы пустынники и жены непорочны”), а того, кто в стихах воспел страсти (например, Гавриилиада), чего сам стыдился в конце жизни. Ранний Пушкин был кумиром литераторов той эпохи, породив подражания.
Литература у Гоголя – служение истине. “Не моё дело решить, в какой степени я поэт, – писал он В.А.Жуковскому в январе 1848 года, – знаю только то, что прежде чем понимать значенье и цель искусства, я уже чувствовал чутьём всей души моей, что оно должно быть свято. И едва ли не со времени… первого свиданья нашего оно стало главным и первым в моей жизни, а всё прочее вторым. Мне казалось, что уже не должен я связываться никакими другими узами на земле, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина и что словесное поприще есть тоже служба. … Что нас свело неравных годами? Искусство. Мы… почувствовали оба святыню искусства. … мой смех вначале был добродушен; … и меня … изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сердятся на меня целиком сословия и классы общества, что я наконец задумался. “Если сила смеха так велика, что её боятся, стало быть, её не следует тратить попустому. Я решился собрать всё дурное, какое только я знал, и за одним разом над ним посмеяться – вот происхождение “Ревизора”!… Представление “Ревизора” произвело на меня тягостное впечатление. Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. … (обратился) …к наблюденью внутреннему над человеком и над душой человеческой. О, как глубже перед тобой раскрывается это познание, когда начнёшь дело с собственной своей души! На этом-то пути поневоле встретишься ближе с тем, который один из всех, доселе бывших на земле, показал в себе полное познанье души человеческой, божественность… с тех пор способность творить стала пробуждаться; живые образы начинают выходить ясно из мглы;… И, может быть, будущий уездный учитель словесности прочтёт ученикам своим страницу будущей моей прозы непосредственно вослед за твоей, примолвивши: “Оба писатели правильно писали, хотя и не похожи друг на друга.” … Как изобразить людей, если не узнать прежде, что такое душа человеческая? … “Искусство есть примиренье с жизнью.” Это правда. …Искусство есть водворенье в душу стройности и порядка, а не смущенья и расстройства. Искусство… это живые люди, созданные и взятые из того же тела, из которого и мы.” (XIV, c. 33 – 38)
Перед взором А.С.Пушкина был образ пророка, которому Бог велит “глаголом жечь сердца людей”, у В.А.Жуковского поэзия “земная сестра небесной религии”, а Гоголь смеялся над чёртом (ложью мира сего), у А.П.Чехова: “В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Она прекрасна, спора нет, но… ведь она только ест, спит, гуляет, чарует всех нас своею красотой – и больше ничего. У неё нет никаких обязанностей, на неё работают другие … Ведь так? А праздная жизнь не может быть чистою. (Пауза.) Впрочем, быть может, я отношусь слишком строго. …”51[1]49
Гоголь не только хорошо знал Евангелие, но жизнью своей воплощал служение Слову, еже еси уготовал пред лицом всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля. В христианском аскетизме, сублимации либидо “тайна безбрачия” Гоголя, а не в фантазии В.В.Розанова о некрофилии. С женщинами строить доверительные и близкие отношения Гоголь умел. Можно взять личную переписку с его воспитанницами (М.П.Балабиной и др.), с А.О.Россет-Смирновой, графинями Виельгорскими, воспоминания родных сестёр писателя, чтоб доказать отсутствие сексопатологии. Если С.Карлинский нашёл у Гоголя “подавленную гомосексуальность”, то это плоды фантазий самого литературоведа из Швеции.
Гоголь сватался к Виельгорским. С другой стороны, как свидетель- ствовал его друг, поэт В.А.Жуковский: “Настоящее его призвание было монашество. Я уверен, что если бы он не начинал свои “Мёртвые Души”, которых окончание лежало на его совести и всё ему не давалось, то он давно бы стал монахом и был бы успокоен совершенно, вступив в ту атмосферу, в которой душа его дышала бы легко и свободно.”52[1]50 Свидетельство другого друга, С.Т.Аксакова: “Отсюда начинается постоянное стремление Гоголя к улучшению в себе духовного человека и преобладание религиозного направления, достигшего впоследствии, по моему мнению, такого высокого настроения, которое уже не совместимо с телесною оболочкою человека.”53[2]51 Ещё свидетель – Марфа Степановна Сабинина – дочь веймарского православного священника Степана Карповича Сабинина. Гоголь в 1845 году: “Он приехал в Веймар, чтобы поговорить с моим отцом о своём желании поступить в монастырь. Видя его болезненное состояние, следствием которого было ипохондрическое настроение духа, отец отговаривал его и убедил не принимать окончательного решения.”54[3]52
Психиатр В.Ф.Чиж писал, что Гоголь “был безразличен к женской красоте”, потому он хотел жениться на А.М.Виельгорской, “которая была нехороша собою”.55[1]53 Но, кто сватался к Анне Михайловне – психиатр Чиж или Гоголь? Кому судить о красоте невесты, кроме жениха? Ясно, что В.Ф.Чиж не сватался.
Слово супруг этимологию имеет в русском языке – соработник, сотрудник в общей упряжке, что два вола тянут, пашущие землю. Важнее не внешность, а добрый, весёлый характер, целомудрие жены, как напишет Пастернак в “Докторе Живаго”: жизнь прожить – не поле перейти. Жить не с приданым, не с внешностью, а с душой (личностью). Пушкин: жена – не рукавица, с белой ручки не стряхнёшь да за пояс не заткнёшь. Ужасно, коли гнался за внешним фантом, а внутри – лицемерие. Не следует забывать, что развод в XIX веке был запрещён. Внешность жены – не главное для счастья в семейной жизни. “Не хвали человека за красоту его, и не имей отвращения к человеку за наружность его. Мала пчела между летающими, по плод её – лучший из сластей.” (Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, 11, 1–3). После отказа Виельгорских Гоголь укрепился в безбрачии. Он поселился в Москве у своего друга графа А.П.Толстого на Никитском бульваре, который подобно Гоголю был набожным человеком, тайно носил вериги, со своей красавицей-супругой (грузинской княжной) вёл целомудренную, благочестивую жизнь, соблюдал посты и церковные традиции.56[1]54 Император Александр II назначит графа Толстого обер- прокурором Святейшего Синода.
В январе 1852 года Николай Васильевич переиздавал все свои сочинения, на вырученные деньги планировал помочь в Васильевке с ремонтом усадьбы. Особой болезненности в январе той зимы в нём не замечали врач А.Т.Тарасенков и многочисленные друзья (А.П.Толстой, С.П.Шевырёв, Хомяковы, Аксаковы). За девять дней до масленицы (25 января 1852 г.) Гоголя посетил Осип Максимович Бодянский, которого сопровождал ещё Г.П.Данилевский. Последний оставил письменные свидетельские показания о том визите к Гоголю. Они застали писателя за рабочей конторкой, за корректурными листами. Гоголь звал Бодянского на воскресенье (27 января) к Ольге Фёдоровне Кошелевой, жившей неподалёку на ул.Поварской, слушать малороссийские песни. Но вечер не состоялся из-за смерти Е.М.Хомяковой. Свидетельствует Данилевский (кто с его показаниями знаком три страницы опустите):
“Это случилось… в Москве … я отправился к О.М.Бодянскому, чтобы ехать с ним к Гоголю. …Радость предстоявшей встречи несколько, однако, затемнялась для меня слухами, которые в то время ходили о Гоголе, по поводу изданной незадолго перед тем его известной книги “Выбранные места из переписки с друзьями”. Я невольно припоминал злые и ядовитые нападки, которыми тогдашняя руководящая критика преследовала эту книгу. Белинский в ту пору был нашим кумиром, а он первый бросил камнем в Гоголя за его “Переписку с друзьями”. … Хотя обвинения Белинского для меня смягчались в кружке тогдашнего ректора Петербургского университета П.А. Плетнёва, друга Пушкина и Жуковского, отзывами иного рода, тем не менее я и мои товарищи-студенты, навещавшие Плетнёва, не могли вполне отрешиться от страстной и подкупающей своим красноречием критики Белинского. Плетнёв, защищая Гоголя, делал что мог. Он читал нам, студентам, письма о Гоголе живших в то время в чужих краях Жуковского и князя Вяземского, объяснял эти письма и советовал нам, не поддаваясь нападкам врагов Гоголя, самостоятельно решить вопрос, прав ли был Гоголь, издавая то, о чём он счёл долгом открыто высказаться перед родиной? – “Его зовут фарисеем и ренегатом, – говорил нам Плетнёв, – клянут его, как некоего служителя мрака и лжи, оглашают его, наконец, чуть не сумасшедшим … и за что же? За то, что, одарённый гением творчества, родной писатель-сатирик дерзнул глубже взглянуть в собственную свою душу, проверить свои сокровенные помыслы и самостоятельно, никого не спросясь, открыто о том поведать другим … Как смел он, создатель Чичикова, Хлестакова, Сквозника и Манилова, пойти не по общей, а по иной дороге, заговорить о духовных вопросах, о церкви, о вере? В сумасшедший дом его! Он – помешанный!” – Так говорил нам Плетнёв. Молва о помешательстве Гоголя, действительно, в то время была распространена в обществе. Говорили странные вещи: будто Гоголь окончательно отрёкся от своего писательского призвания, будто он постится по целым неделям, живёт, как монах. Читает только Ветхий и Новый Завет и жития святых и, душевно болея и сильно опустившись, относится с отвращением не только к изящной литературе, но и к искусству вообще. …Одно меня успокаивало: Гоголь пригласил к себе певца-малоросса, этот певец должен был у него петь народные украинские песни, – следовательно, думал я, автор “Мёртвых душ” не вполне ещё стал монахом-аскетом, и его душе ещё доступны произведения художественного творчества. … Старик-слуга графа Толстого приветливо указал нам дверь из передней направо. …Бодянский постучался в дверь этой комнаты.
–
Чи дома, брате Миколо? – спросил он по-малорусски.
–
А дома ж, дома! – негромко ответил кто-то оттуда.
… Мы вошли в кабинет. Бодянский представил меня Гоголю, сказав ему, что я служу при Норове57[1]* и что с ним, Бодянским, давно знаком через Срезневского и Плетнёва. … Мои опасения рассеялись. Передо мной был не только не душевнобольной или вообще свихнувшийся человек. А тот же самый Гоголь, тот же могучий и привлекательный художник, каким я привык себе воображать его с юности. Разговаривая с Бодянским, Гоголь то плавно прохаживался по комнате, то садился в кресло к столу, за которым Бодянский и я сидели на диване, и изредка посматривал на меня. Среднего роста, плотный и с совершенно здоровым цветом лица, он был одет в тёмно-коричневое длинное пальто и в тёмнозелёный бархатный жилет, наглухо застёгнутый до шеи, у которого, поверх атласного чёрного галстука, виднелись белые, мягкие воротнички рубахи. Его длинные каштановые волосы прямыми космами спадали ниже ушей, слегка загибаясь над ними. Тонкие, тёмные, шёлковистые усики… Небольшие карие глаза глядели ласково, но осторожно и не улыбаясь даже тогда, когда он говорил что-либо весёлое и смешное. Длинный, сухой нос придавал этому лицу и этим, сидевшим по его сторонам, осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее и вместе добродушно-горделивое. Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно-задумчивые аисты. Гоголь в то время, как я отлично помню, был очень похож на свой портрет, писанный с него в Риме, в 1841 году, знаменитым Ивановым.58[2]** Этому портрету он, как известно, отдавал предпочтение перед другими. Успокоясь от невольного, охватившего меня смущения, я стал понемногу вслушиваться в разговор Гоголя с Бодянским. …
–
…А что это у вас за рукописи? – спросил Бодянский, указывая на рабочую, красного дерева, конторку, стоявшую налево от входных дверей, за которою Гоголь, перед нашим приходом, очевидно, работал стоя.
–
Так себе, мараю по временам! – небрежно ответил Гоголь.
На верхней части конторки были положены книги и тетради; на её покатой доске, обитой зелёным сукном, лежали раскрытые, мелко исписанные и перемаранные листы.
–
Не второй ли том “Мёртвых душ”? – спросил, подмигивая, Бодянский.
–
Да… иногда берусь, – нехотя проговорил Гоголь, – но работа не подвигается; иное слово вытягиваешь клещами.
–
Что же мешает? У вас тут так удобно, тихо.
–
Погода, убийственный климат! Невольно вспоминаешь Италию, Рим, где писалось лучше и так легко. Хотел было на зиму в Крым, к В.М.Княжевичу, там писать, думал завернуть и на родину, к своим, – туда звали на свадьбу сестры, Елизаветы Васильевны…
–
За чем же дело стало? – спросил Бодянский.
–
Едва добрался до Калуги и возвратился. Дороги невозможные, простудился; да и времени пришлось бы столько потратить на одни переезды. А тут ещё затеял новое полное издание своих сочинений.
–
Скоро ли оно выйдет?
–
В трёх типографиях начал печатать, – ответил Гоголь, – будет четыре больших тома. Сюда войдут все повести, драматические вещи и обе части “Мёртвых душ”. Пятый том я напечатаю позже, под заглавием “Юношеские опыты”. Сюда войдут некоторые журнальные статьи, статьи из “Арабесок” и прочее.

