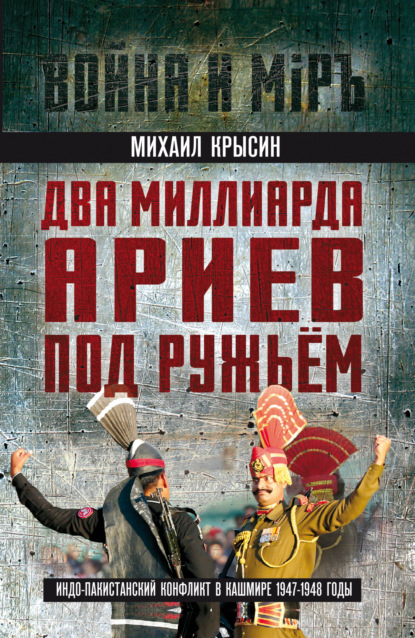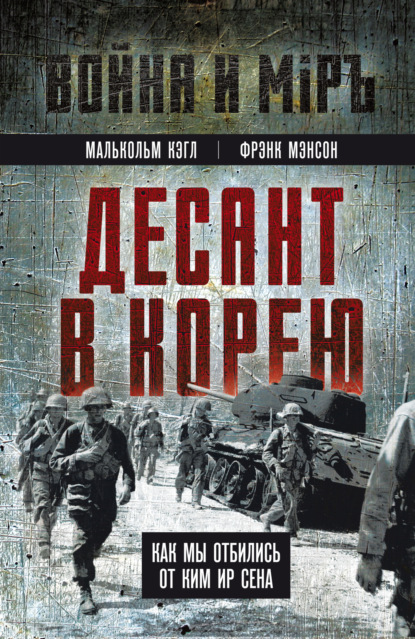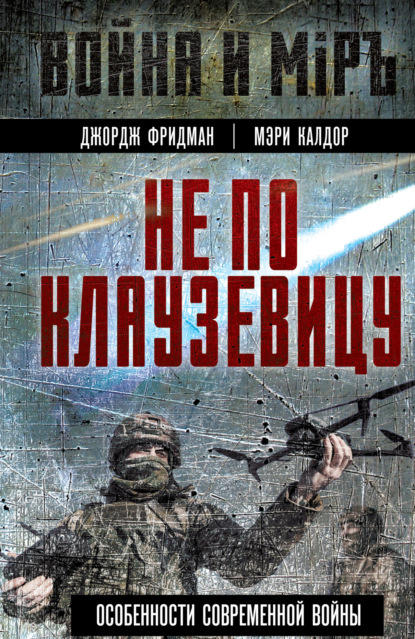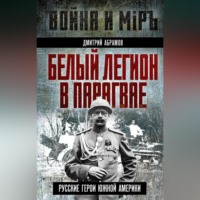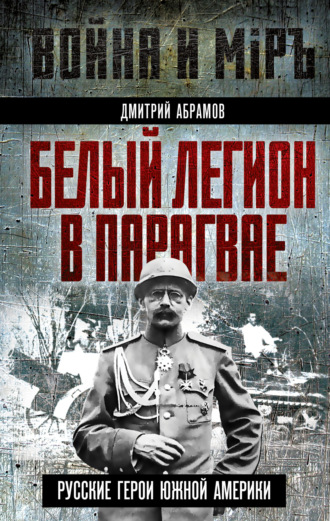
Полная версия
Белый легион в Парагвае. Русские герои Южной Америки
– Sí! Se dice épica, Señor mayor! (Да! Это сказано эпически, господин майор! – с чувством удивления и глубокого почтения произнёс креол.
После этого офицер-креол громко перевёл на гуарани́ для солдат рассказ их «комбатанте». Те с пониманием закивали головами и вежливо благодарили командира.
Серебряков по-русски отдал честь, приложив кисть руки к козырьку донской фуражки и откланялся. Офицеры и солдаты отвечали ему тем же.
* * *После неудачного штурма и гибели командира 2-го батальона пехотного полка «Корралес» была поставлена задача найти большую ровную площадку в джунглях, закрепиться там и расчистить её для посадки самолётов.
Восточный Чако это – равнины, субтропического климата со слабо выраженным сухим сезоном. В округе форта господствовали субтропические леса средней высоты и редколесья. Кроны деревьев достигали 12 метров, реже возвышались деревья высотой 16–18 метров. В растительности этой местности наиболее заметны были виды красного дерева – рода «Schinopsis». Общепринятым названием для этих деревьев является «кебрачо», означающее по-индейски «сломай топор», что свидетельствует о твердости древесины. Эти деревья решили не срубать, а рыть у корней яму, закладывать тротиловые шашки и взрывать. В обилии здесь встречали и группы кактусов. Некоторые из них – опунции и цереусы – были древовидными. Реже в западном Парагвае можно было увидеть шёлковые деревья, или «сейба» (Ceiba chodatii). Они напоминали бутылочные деревья (баобабы) Африки.
Серебряков отметил, что в округе форта наблюдается обилие рек, болот и камышовников. Густая растительность речных пойм сильно контрастировала здесь с редкими саваннами остальной части региона. На пути войск встречались довольно разреженные саванны, так называемые «парковые», в которых древесный полог (высота редких деревьев) порой достигал 25–30 метров. Характерной чертой местных саванн являлось и большое обилие термитников.
Ещё одна особенность этих мест – заросли высоких кустарников и низкорослых деревьев – «маторраль» высотой 4–8 м. Вот одну из таких ровных, больших «полян» с зарослями кустарников среди джунглей майор Серебряков и предложил использовать для строительства аэродрома. Он сам подобрал наиболее удобное место верстах в 5-ти юго-восточнее форта «Бокерон».
Силами трех батальонов пехотного полка уже 10 сентября началась расчистка джунглей и кустарника. Одним из этих батальонов стал 1-й батальон майора Серебрякова. Командованием была поставлена задача создать здесь две взлётно-посадочные площадки (две взлетные полосы). Т. е. они должны были построить небольшой временный аэродром, способный принимать, обслуживать и обеспечивать взлёт, посадку и стоянку около полутора десятка самолётов. К работе люди отнеслись с энтузиазмом. Солдаты, офицеры и даже штабные дружно взялись за топоры и мачете, пилы и ножовки, ломы и лопаты. Им была поставлена задача повалить джунгли и кустарники на площади длинной 1148 футов (около 350 метров), шириной 164 фута (около 50 метров). Затем надлежало хорошо расчистить от леса и утрамбовать площадку размером в 984 фута (300 метров) на 131 фут (40 метров). На этой расчищенной и утрамбованной площадке намечалось отмерить и разметить 5 полос шириной не менее 26 футов (около 8 метров) каждая. Две наружные полосы (1-я и 5-я) длинной не менее 984 фута (около 300 метров) предназначались для стоянки самолетов. Самолеты предполагали размещать в восточной части этих полос так как они должны были стартовать с востока и взлетать на запад. Две следующие от краёв полосы (3-я и 4-я) являлись взлетно-посадочными. Точнее южная в основном предназначалась для посадки, северная – для взлёта. Эти полосы надлежало особо хорошо утрамбовать и сделать их длинной не менее 250 метров каждую. Центральная полоса служила разделителем между взлётной и посадочной. Ширина полос – 8 метров была рассчитана на средний размах плоскостей самолета. Майор Серебряков, конечно, принимал участие в устройстве площадки и всё размечал в метрах. У него сохранилась 50-метровая строительная русская рулетка.
В течении восьми дней более 1000 человек трудились с раннего утра до позднего вечера на строительстве небольшого аэродрома. Ни у кого из них не было ни выходных, ни отгулов, ни праздников. На четвёртый день на строительство аэродрома приехал генерал Иван Тимофеевич Беляев, который и возглавил дела. С его прибытием стройка пошла быстрее. С приездом Беляева Серебрякову стало намного легче и на душе, и в делах. Они часто встречались по вечерам, пили по-русски чай и обсуждали все наболевшие вопросы.
Уже 16-го сентября были готовы две полосы, которые приняли первые восемь самолётов на аэродроме. И уже 17-го сентября начались бомбардировки и авиационный обстрел форта «Бокерон». Ещё два дня рабочие группы батальонов расширяли и расчищали периметр вокруг взлётно-посадочных полос. Большая работа велась по трамбовке. Благо стояла сухая и жаркая погода. За все эти дни не прошло ни одного дождя. Каждое утро с шести часов утра Серебряков начинал день с молитвы. В его палатке был установлен образ Богородицы Семистрельная (схожий по каноническому изображению образу «Донской Богоматери»)[8], перед которой всегда теплилась лампада. К нему в палатку приходили офицеры разных батальонов, которые с интересом слушали молитвы на церковно-славянском языке, тихо шептали молитвы на латыни и творили крестное знамение пятью перстами с лева на право – по-католически.
* * *Все эти дни, сопровождавшиеся напряженным физическим трудом и заботами по устройству аэродрома, Серебряков вспоминал о своей любимой. Её звали Ириной. Война и скитания в эмиграции не позволили ему наладить семейную жизнь. Но он был еще полон сил и не терял надежды.
Василий познакомился с ней в Буэнос-Айресе в одном из русских храмов. Тогда ему было 28 лет. Ей же шёл 20-й год. Она выглядела тогда совершенно несчастной и растерянной. На ней было сиреневое чисто выстиранное, но поношенное платье. Её карие глаза были печальны, но наполнены светом переживания и боли. Пряди каштановых волос выбивались из-под голубого платка. Полнокровные уста были плотно сомкнуты и напряжены. Но Серебрякову сильно понравилась эта девушка, потому он осмелился подойти к ней и познакомиться у главного портала, при выходе из храма.
Её семья потеряла в России всё своё состояние и пребывала в полунищете. В Аргентину её родители приехали, потратив последние средства. Двух своих дочерей они вывезли из Крыма, когда Ирине было ещё 16, а её сестре 12 лет. Но тогда у них были хоть какие-то деньги. Теперь же им предстояло всё начинать сызнова, надо было прикладывать все усилия, чтобы прокормить семью, приобрести дом или квартиру, обеспечить будущее своим детям.
Василий сводил Ирину в кинематограф, угостил её кофе с пирожными. Потом они долго гуляли и беседовали. Он рассказывал ей о своей юности, учебе, о родной станице. Она делилась с ним своими воспоминаниями о Новочеркасске, о большом войсковом соборе, что стоял на площади в самом центре города, о своей гимназической жизни. Они читали на память любимые стихи. Затем она просила его рассказать о Гражданской войне. Но об этом он рассказывал неохотно. Правда поведал, как в 1920-м под Перекопом он познакомился с поэтом-казаком Николаем Туроверовым, о том, как тот в офицерской компании читал свои великолепные стихи.

Парагвайские истребители на итальянских самолётах
– Где сейчас этот талантливый поэт? Как сложилась его судьба? – спросила Ирина.
– Я слышал, что он остался во Франции. Слышал, что пишет, публикуется. Но очень тоскует по Родине. Кажется, хотел поступать на службу в иностранный легион, – отвечал Василий.
– Печальная судьба! – промолвила собеседница.
– Сложно нынче судить об этом! Время ещё покажет, – произнёс тогда Серебряков, ибо сам помышлял о военной службе на новой родине.
Шли недели, месяцы. Василий и Ирина встречались всё чаще. Наконец они поняли, что любят друг друга и обручились.
Прошло месяца три после их первой встречи и знакомства. Родители Ирины смогли найти себе работу и сняли небольшую, но уютную квартиру и стали копить деньги на дом. Казалось, что дело идёт к свадьбе. Василий также зарабатывал на жизнь тем, что работал то землемером, то картографом, то топогеодезистом. Словом, порой, когда работы не было он еле сводил концы с концами. Он, конечно, пытался откладывать на свадьбу и на будущую жизнь, однако получалось не очень. И тут Василию пришло письмо от генерала Беляева из Парагвая. Тот писал, что в этой стране складывается большая русская колония, что здесь русским рады и очень ждут их, так как не хватает квалифицированных рабочих рук и хороших специалистов. Но главным было даже и не это. Главным было то, что в Парагвае формируется новая армия, что там нужны опытные офицеры. Мало того, Беляев обещал ему при поступлении на воинскую службу чин майора, равный чину есаула, а также специальную должность и особое задание.
Предложение это было столь заманчиво, что есаул не мог от него отказаться. Во-первых, правительство Парагвая обещало гражданство всем, поступавшим на службу. Во-вторых, его казачья душа маялась от мирной, гражданской жизни. Он не мыслил себя простым инженером, не представлял какое будущее ждёт его. А там в Парагвае его ждала настоящая, интересная воинская служба, повышение в звании, карьера.
Он объяснился с Ириной и её родителями. Она, конечно, плакала, но понимала, что удержать его невозможно. Родители её также согласились, что молодому человеку надо устроиться и найти своё место в жизни. Свадьбу временно отложили, и он уехал в Парагвай, окрылённый мечтой и полный надежд.
* * *Уже к 19-му сентября парагвайцы стянули к форту «Бокерон» практически всю имеющуюся авиацию и до конца сентября практически ежедневно бомбили форт. Особую роль исполняли бомбардировщики системы «Потез». Была предпринята попытка ещё одного штурма, но она оказалась неудачной. Бомбардировки и обстрелы продолжались. Парагвайские самолеты делали не менее двух вылетов в сутки.
– Por favor, no se apresure a sacar conclusions, del Señor! El pez Boquerón estará en nuestras redes (Прошу не спешить с выводами, господа! Рыбка Бокерон ещё попадет в наши сети) – как-то сказал Серебряков своим офицерам.
Боливийская авиация, не имевшая аэродромов поблизости, не смогла прикрыть свои войска с воздуха. В бомбометании и обстреле форта с воздуха принимали участие все парагвайские самолёты, базировавшиеся на аэродроме. Лёгкие самолёты прикрывали бомбардировщики, обстреливая из пулемётов солдат боливийского гарнизона и его пулемётные расчёты «Симаг-Беккер», которые предназначались для противовоздушной обороны. Так пришла латиноамериканская весна[9]. К 25-го сентября парагвайские лётчики стали сообщать, что все деревянные и бревенчатые конструкции форта были разбиты или сожжены. Кладка каменных укреплений форта также была значительно порушена. Гарнизон форта явно понёс большие потери, так как в двух милях западнее «Бокерона» боливийцы развернули большой полевой госпиталь.
Утром 27-го сентября авиационная разведка и разведка полка «Корралес» донесли, что из форта в сторону аэродрома вышел довольно значительны отряд боливийцев численностью более 2 тысяч штыков. По сообщениям разведчиков этому отряду противника была придана артиллерийская батарея из пяти лёгких орудий. И, скорее всего, у боливийцев было около десяти пулемётов.
Вечером того же дня 1-й и 2-й батальоны пехотного полка выдвинулись к форту и закрепились на позициях в 3-х верстах западнее аэродрома. В тот же вечер были отрыты окопы и подготовлены позиции для обороны.
* * *Ночью Ирина приснилась ему. Сначала он увидел её своей женой. Но потом во сне она предстала перед ним как невеста. Первоначально на ней была белая фата и белое шёлковое платье. Потом она показалась ему в чёрной фате и чёрном платье. Следом она спросила у него в каком наряде ей лучше – в чёрном или в белом. Василий, подумав с минуту (как ему привиделось во сне) отвечал, что лучше в белом. Ирина загадочно улыбнулась и всё же вновь явилась ему в чёрном. Он спросил:
– Почему?
– Так мне, больше идёт, – отвечала она.
После этих слов наступила звенящая тишина и пустота окружили его, и он в тревоге проснулся…
Как только Василий открыл глаза. Увидел над собой крону кебрачо. Он поднялся и сел на шинели. Осмотрелся. Всё было тихо в округе. Мирно догорали костры. Часовые тихо ходили по окопам. Солдаты и офицеры спали. Тут он неожиданно вспомнил страшное зимнее сражение под станицей Егорлыкской[10], где чудом остался жив. В те февральские дни 1920-го прошли сильные снегопады и замело. Затем ударили морозы и вьюгой закрутило по всей степи. Кони шли с трудом по глубоким снегам, оставляя последние силы. Мороз, сугробы и снежные заносы косили, выбивали из строя и людей и лошадей. Тогда при отступлении белых соединений из Донских степей к Кубани командование казачьих частей посчитало, что казаки оторвались от красных и впереди нет заслонов. Потому казачьи полки шли без разведки и охранения. На правом фланге двигался 4-й, а на левом – 2-й Донской корпуса.
Но утром 25-го февраля в 10 верстах к югу от селения Среднеегорлыкского разъезды 1-й Конной армии заметили колонны казаков. Тут 6-я конно-кавалерийская дивизия 1-й Конармии под командованием комдива Тимошенко, развернувшись в боевой порядок, ударила артиллерийским и пулемётным огнём по походным колоннам 4-го Донского корпуса, а потом атаковала его. Казаки не ждали удара и побежали. Тогда Серебряков, раненый в плечо, чуть-чуть не попал под шквал пулемётного огня. Но раненый, он усидел в седле, а добрый конь вынес его из той смертельной вьюги.
Он сам не мог понять, почему чудом остался жив тогда…
* * *28-го сентября произошла ожесточенная схватка в лесистой местности Чако под фортом «Бокерон». Тяжёлая артиллерия била со стороны форта. Ей отвечали гаубицы и скорострельные орудия парагвайской батареи. Сражающихся с обеих сторон осыпали комья земли, жутко визжали и свистели осколки, сражая, калеча, убивая людей. В промежутках между боем орудий гулко били пулемёты. Винтовочные выстрелы звучали реже, их глушили удары более мощных видов оружия. Осколки и пули пулемётов прошивали джунгли, срубая ветви и стволы пальм, шёлковых деревья «сейба», кустарников и даже крепких «кебрачо».
Парагвайская пехота отразила атаку боливийцев, в которой противник понёс ощутимые потери. Но и в полку «Корралес» потери были немалые. Более ста человек солдат и несколько офицеров уже выбыло из строя. Многие из них погибли, другие были тяжело ранены.
Не теряя времени, командир 1-го батальона повел за собой в отважную контратаку своих людей. В ходе контратаки, переросшей в штурм форта, на глазах своих офицеров и солдат Василий Федорович Серебряков был сражен пулей на вылет в левую часть груди. Батальоны пехотного полка «Корралес» откатились на свои позиции. Однако судьба, казалось неприступного форта, была предрешена!
* * *Четверо верных солдат-христиан из племени гуарани́ быстро несли через джунгли на носилках своего командира в полевой лазарет, развёрнутый близ аэродрома. Их сопровождало ещё четверо таких же. Они охраняли своего раненого командира и сменяли носильщиков. Они торопились, но ступали осторожно и плавно, скинув обувь, они шли по джунглям босиком, так как из века в век ходили по малозаметным тропам в этих диких лесах их отцы, деды и праотцы – охотники из племени гуарани. Густые зелено-синие джунгли проплывали над их головами!
Раненый Василий периодически открывал глаза и ему казалось, что он плывет на спине, точнее – его плавно несёт по течению в водах родной Медведицы, которая гонит свои воды в Тихий Дон. А вот там за поворотом уже виден Дон-Батюшка. Серебряков был ещё жив. Но рана его была смертельна. Пуля прошла ему прямо под сердце. Кровь стекала на носилки, сочилась сквозь брезент и скапывала на травы. Ему оставалось жить ещё минут десять. Глаза его были открыты, он видел всё…
А вот и поворот! Волна восхищения и радости охватила, подняла его, ибо он почувствовал, узрел, как эта волна внесла его в воды Великой Вечной Вселенской реки…
* * *29-го сентября, разнесенный в пух и прах парагвайской авиацией, обескровленный в жестоких схватках с пехотным полком «Корралес» боливийский гарнизон капитулировал. Это была первая, пусть и не решающая победа в той войне, которая склонила чашу весов в пользу независимости Парагвая.
Жившие в эмиграции генерал Деникин, а также капитан парагвайского флота Туманов, (командовавший в годы Гражданской войны Волжско-Каспийской флотилией) отозвались на подвиг Серебрякова статьями в мировой прессе Русского Зарубежья. Имя этого отважного казака увековечили улица Basilio Serebriakoff в столице Парагвая – Асунсьоне и город Fortin Serebriakoff на северо-западе страны (после войны один из фортов в Чако был назван «Серебряков» – именем русского казака). В храме Покрова Пресвятой Богородицы, отстроенном также в Асунсьоне, имя Серебрякова было запечатлено на памятной мраморной доске. Бессмертным памятником покойному есаулу Всевеликаго войска Донского стали и стихи. Их написал в память о тех боях и о своём земляке поэт Николай Поляков – белоэмигрант, казак Усть-Медведицкого округа:
«Странно видеть нам аборигенов нравы,В джунглях уж не раз сбивается компа́с,В прериях казачьи кони топчут травыИ глядят индейцы на донской лампа́с!»Горячий пулемёт и последняя граната
Сезон дождей завершился, и природа заблагоухала. Стояла тёплая и сухая февральская ночь. В кустах и травах пели и верещали цикады. Лёгкий ветерок ласково касался ветвей пальм. Полная Луна высветлила небо. Редкие облачка порой появлялись на чёрном небосводе полном звёзд и созвездий. Вот такой дивной ночью в джунглях Чако на запад медленно продвигался отдельный кавалерийский эскадрон Первой пехотной дивизии числом в 175 сабель. Копыта и бабки лошадей были обмотаны тряпками. Чтобы кони были спокойны и не ржали, верховые гладили коней по храпам. Кавалеристам было запрещено курить и громко разговаривать. Люди общались только шёпотом. Словом движение происходило в полной тишине. Иногда эту тишину нарушали удары мачете или топора, когда нужно было срубить мешавшую движению, перегородившую тропу, полу-упавшую пальму. Ветви деревьев и пальм хлестали людей и лошадей, но те упрямо шли вперёд.
Впереди эскадрона быстро и умело, хорошо ориентируясь среди чащобы, какими-то своими, известными им одним тропами пробиралась и указывала дорогу кавалеристам босоногая, полуголая разведка из воинов-индейцев гуарани́. Разведчики были разукрашены боевыми и маскировочными рисунками, нанесёнными на лица, торсы, плечи, грудь и даже на ноги. Они использовали в качестве краски сажу, рыжую глину и какие-то, знакомые лишь аборигенам, естественные красители. Только лёгкие штаны, закатанные до самых колен, прикрывали их тела. Они были вооружены луками и стрелами, которыми владели бесшумно и превосходно. Их стрелы могли разить точно в цель за 150 метров. Наиболее рослые индейцы несли в руках недлинные 2-х метровые копья, которые метали до 40, а иной раз и до 50 метров с той же точностью, как и стрелы.
Во главе эскадрона в сёдлах ехали трое. Старшим среди них был капитан парагвайской армии Борис Павлович Касьянов, бывший ротмистр Псковского лейб-драгунского Ея Величества полка. Справа от него ехал его помощник и начальник разведки лейтенант Александр фон Экстейн. А слева начальник штаба – капитан и также бывший есаул кубанского войска Алексей Иванович Пазухин.
Через четверть часа бесшумного движения эскадрона, вынырнув из чащи словно тени, к лейтенанту подошли двое разведчиков-гуарани́. Капитан Касьянов махнул рукой и эскадрон остановился. Индейцы тихо, немногословно и очень быстро что-то сказали лейтенанту на своём языке. Фон Экстейн внимательно выслушав их, утвердительно махнул головой, что-то ответил и гуарани́ вновь растаяли в джунглях.

Командир пулеметного взвода парагвайской армии.
– Что там впереди, Саша? Что они сказали? – спросил Касьянов у лейтенанта, который неплохо знал язык аборигенов и мог с ними объясняться.
– Они сказали, что боливийцы стоят лагерем у деревни Сааведра. Лагерь укреплён плохо, но дорога обстреливается их пулемётами.
– Сколько пулемётов у них?
– Они видели не менее трёх, – отвечал лейтенант.
– Господа офицеры, перед серьёзным делом надо дать отдых людям и лошадям. Мы прошли за сутки более 25 вёрст, – произнёс капитан Пазухин.
– Ты прав, Алексей. До противника ещё далеко. Время у нас есть. Прикажи эскадрону оставить сёдла и командуй отбой, – согласился Касьянов.
* * *Кавалеристы спали вповалку у небольших костров, подстелив под себя пончо. Сёдла служили им подушками. Лошади были рассёдланы, укрыты попонами, обротки и удила были сняты, и те медленно тёрли зубами листья и овес. Пятеро часовых неспешно ходили вокруг лагеря. Не спали и разведчики-гуарани. Они сидели группой в десять человек у своего отдельного костра, тихо разговаривали и что-то варили в небольшом котле.
А трое офицеров расположились у костра на биваке в самом центре лагеря. Касьянов и Пазухин не спали. Они выпили по паре глотков «мескаля»[11] и пекли картошку, закопав клубни в угли. Лейтенант Александр фон Экстейн дремал, склонившись головой на седло.
– Интересные люди эти гуарани́. Лошадей вроде бы знают, любят их, но верхом не садятся. Воюют и ходят только пеши, – произнёс Пазухин.
– Они говорят, что пешком в джунглях передвигаться удобнее. Лошадей используют как тягловую силу. Возят на них вьюки, впрягают их в лёгкие повозки-волокуши, типа двух длинных оглобель, стянутых ремнями, которые крепят на груди и холке лошадей, – включился в разговор лейтенант, ранее, казалось, уже задремавший.
– Однако, какой сметливый и храбрый народ гуарани́. Держатся независимо. Слову своему верны. Внимательно следят за всем, что происходит у нас, – произнёс Касьянов.
– Они утверждают, якобы их древние предки были белыми, как и европейцы. Сколь это правдоподобно? – с интересом спросил Пазухин, пошевелив палкой в углях, пытаясь рассмотреть, как печётся картошка.
– Не спеши, Лёша. Не вороши угли раньше времени. Пусть ещё попечётся. Да и угли ещё слабые, – заметил Касьянов.
«– Отвага в их глазах горит,Тверда рука их как гранит,Стрела их прямо в цель разит.Пред боем Бога помяни,И честь свою не урониПеред лицом гуарани́»,– произнёс засыпающий лейтенант.
– Вот ещё один поэт! Скольких таких пришлось повстречать на войне. Или они на войне, как грибы родятся? – с усмешкой произнёс Пазухин.
– Я не часто встречал. Здесь в Парагвае знаю одного – Полякова из донских казаков, – заметил Касьянов.
– О, Борис. Тебе не свезло. Я уже в окопах Германской познакомился с таковыми, и понял, что война пробуждает порой самые высокие и благородные человеческие эмоции.
– Интересно. Поведай, Алексей, – с интересом попросил Касьянов.
– Ну вот, например, Николай Гумилёв. Слышал о нём? – спросил Пазухин.
– Ещё бы! И ты был знаком с Гумилёвым? Где, когда?
– Это произошло в Питере. Весной 1917-го. Выпал мне отпуск, и прямо с фронта мы двинули в Петроград. В кабаке увидел я Гумилёва, там и познакомились. Забыл название той ресторации…Какой-то «Приют…». Точно не помню. Словом, кабак, где собиралась вся питерская богема. А привёл меня туда ещё один поэт. Но об этом потом…, – стал рассказывать Пазухин.
– Он что ж, пил и читал стихи?
– Да, ты знаешь, мы с другом вошли и тот будучи сам из поэтической среды сразу узнал Гумилёва. Совпало так, что Гумилёв тоже приехал с фронта и сидел со своими друзьями-фронтовыми офицерами. Мы сразу к ним подъехали и уселись все вместе. Помню много интересных рассказов, и стихи лились, как и пиво в тот день. А второй раз встретились там же, так пили водку и опять читались стихи. Был там с ним в цивильном друг его, тоже поэт или писатель с простой фамилией Ива́нов. Георгий кажется.
– Я слышал, что Гумилёв слыл немалым храбрецом и героем?
– Немного, не мало, но два Георгия у него красовались на груди, – отвечал Пазухин.
– Вроде бы, большевики расправились с ним? – спросил Касьянов.
– Да, печальная участь. Не пощадили суки этого талантливого и умного человека.
– Надо помянуть его, – произнес Пазухин и перекрестился.
Касьянов же согласно кивнул головой и разлил по кружкам. Они выпили по глотку.
– А тот, кто привёл тебя, что за персона? – спросил Касьянов.
– Знаешь, Борис. То – загадочная личность, артиллерист, прапорщик. Из реалистов сразу на фронт. Стихи писал неплохие. Звали его Кирилл Космин. Мы с ним в Брусиловском прорыве участвовали. Он в нашей конно-артиллерийской батарее служил. Артиллеристы эти здорово нам тогда под Тернополем помогли при прорыве австрийского фронта. И в разведку мы с ним ходили. Это с ним я весной 17-го в Питер в отпуск ездил и с Гумилёвым познакомился. Потом уже после Германского фронта мы пересекались. В 18-м году весной на юге встретились, в Мелитополе. Тогда с Дроздовским на Дон прорывались, вот там и повстречались. Он – молодец, сразу с нами пошёл и дрался у Дроздовского в стрелках пока его в артиллерию не направили. Генерал Деникин тогда начал реорганизацию Добрармии. А я тогда же к кубанцам подался в конницу.