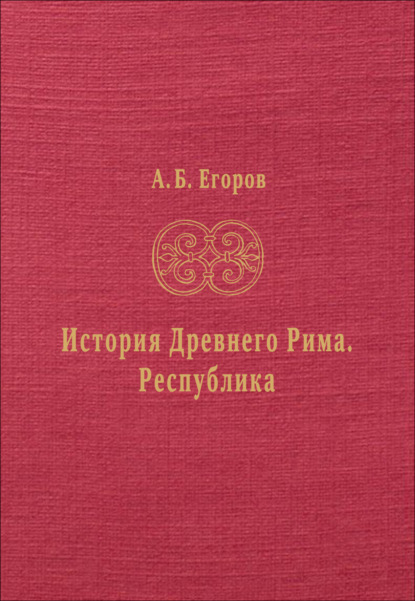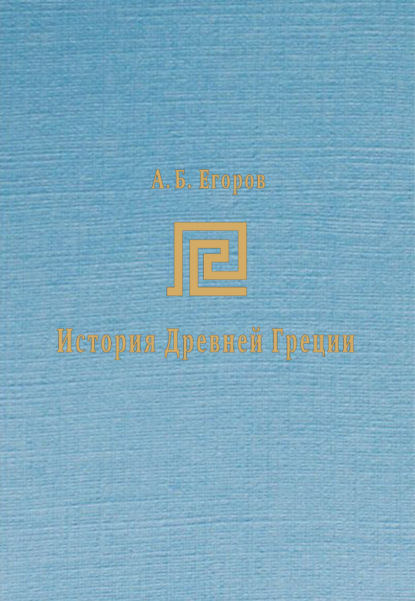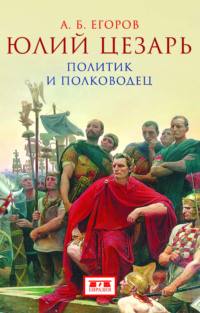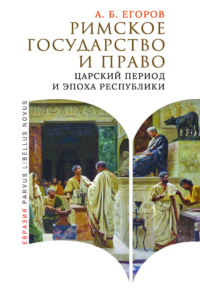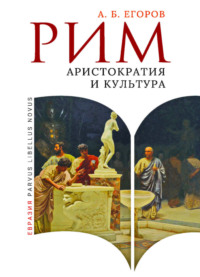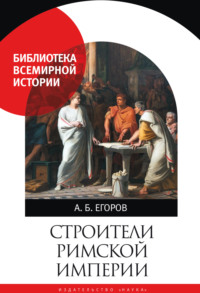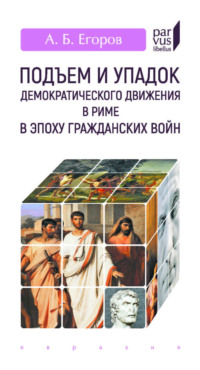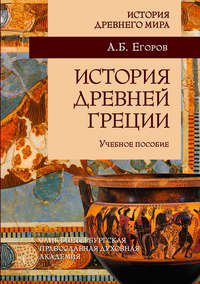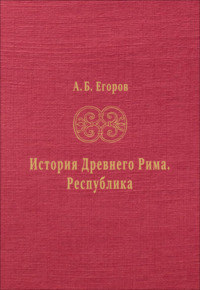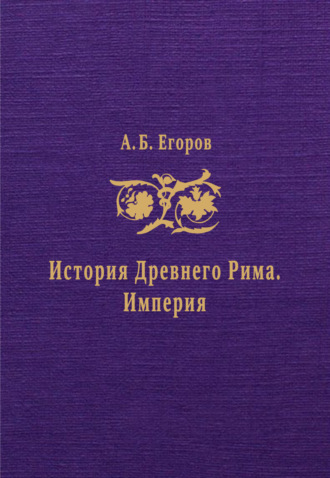
Полная версия
История Древнего Рима. Империя
Военные действия 31 г. открыл Антоний. Вместе с Клеопатрой он прибыл в Эфес и велел Канидию Крассу с 16‑ю легионами идти к побережью Эгейского моря. Всего у Антония было 19 довольно слабых легионов, еще 11 были рассредоточены в Кирене, Сирии, Македонии и Египте. Армия Канидия насчитывала примерно 60–65 тыс. человек пехоты, контингенты вассальных царей (10–12 тыс. человек) и 12.000 всадников. Сюда же подошли основные силы флота Антония. По сообщению Плутарха, из общего числа кораблей, достигавшего 800, Антоний решил оставить всего около 500. Многие были сожжены, по причине нехватки гребцов. В стане Антония шли постоянные споры между римским генералитетом и окружением Клеопатры, неизбежно одерживавшим верх, что вызывало дезертирство многих высокопоставленных офицеров Антония.
Октавиан выделил для войны 80 тыс. пехоты, 12 тыс. конницы и 400 кораблей. Исследователи отмечают качественное превосходство последнего над противником. Командование было монолитно: политическое руководство осуществлял Октавиан, флотом командовал Агриппа (он же осуществлял общее командование), сухопутной армией – Тиберий Статилий Тавр. Армия и флот Антония стояли у острова Коркиры, противник расположился в Патарах, флот находился возле мыса Акций. Удачным маневром Агриппа занял Левкады, Патры и Коринф, отрезав Антония от подвоза продовольствия. Из армии Антония началось массовое дезертирство. Среди перешедших к Октавиану был даже Домиций Агенобарб. Антоний проиграл войну еще до того, как она началась.
2 августа 31 г. по настоянию Клеопатры и против воли генералов Антония у мыса Акций произошло генеральное сражение. Флотом Антония командовали Сосий и Геллий Публикола. Ход битвы неясен. Силы Антония стали выходить из глубины Амбракийского залива и были атакованы неприятелем. Отступая в открытое море, Агриппа стал растягивать свой боевой порядок, стремясь обойти флот Антония. Геллий был вынужден делать то же самое, однако в образовавшуюся брешь ударила эскадра Аррунтия. Это стало началом поражения, а потому Клеопатра с 60 кораблями египетского флота ушла с поля боя, взяв курс на Египет. За ней последовал Антоний, видимо, примерно с 40 кораблями. Оставшиеся сопротивлялись до глубокого вечера, и 300 кораблей сдались Октавиану.
Война была проиграна. Без боя сдалась вся сухопутная армия Антония. Весной 30 г. Октавиан с большими силами выступил против Египта через Сирию, навстречу из Кирены шла армия Корнелия Галла. На сторону победителей перешел последний союзник Антония, иудейский царь Ирод. Летом Октавиан достиг Пелузия. Правительственные войска шли на Александрию. Антоний дал им свою последнюю битву. Флот и конница сдались противнику, а пехота потерпела поражение. После поражения Антоний покончил с собой, и 1 августа 30 г. Октавиан вошел в Александрию. Клеопатра была захвачена, но вскоре также покончила с собой. Почти все сторонники Антония погибли. Египет стал провинцией, казна Птолемеев окупила военные расходы. Гражданские войны закончились.
Римская культура эпохи гражданских войн
Эпоха гражданских войн стала временем значительного культурного подъема, происходящего на фоне упадка традиционной республиканской идеологии. Это сочетание обусловило развитие культуры конца II–I вв. до Р. Х. Ломка традиционных представлений сделала общество более открытым, а высокий уровень позволял не только копировать греческие образцы, но и перерабатывать их творчески. В этот период возникает собственная, глубоко оригинальная римская культура, значимость которой повышалась еще и потому, что собственно культура Греции находилась в состоянии упадка. Общество очень болезненно реагировало на кризис. Мировоззрение становилось более утонченным и рафинированным, однако в нем же появлялся и несвойственный ранее надлом. Как бы компенсируя кризис полиса в экономике и политике, римские идеологи тщательнее разрабатывают его морально-правовые аспекты. Как отмечает Хр. Мейер, римское общество прекрасно понимало неизбежность перемен, однако столь же общим явлением было стремление их избежать. Рим оказался в тисках «кризиса без альтернативы».
Перемены коснулись главных сфер общественного сознания, а также религии, семейных отношений и быта. Внешне могло показаться, что принципиальных перемен в религии не произошло. Главным ее элементом продолжал оставаться сформировавшийся под греческим влиянием пантеон, в который входили все те же боги, которые характерны для ранней Республики – Юпитер, Марс, Квирин, Диана, Юнона, Венера и др. Сохранялись и древние пласты религии: вера в манов, гениев и ларов, ауспиции, магия, древнейшие земледельческие культы и т. п. Более того, общество отчасти пыталось искусственным образом законсервировать и регенерировать эту традицию.
Тем не менее, перемены были очевидны. В обществе рос интерес к позитивному знанию и рационалистической философии, что, конечно же, затрагивало и религиозные верования. Отмечался упадок крайне важных для римлян обрядовых отношений человека и бога. Храмы стояли в запустении, ветшали и разрушались, жреческие должности оставались вакантными, обряды забывались или упрощались. Традиционным сетованием консерваторов становилось указание на «пренебрежение к богам». Под этим подразумевалось не только и не столько неверие в богов, сколько нежелание тратить силы, время и деньги на выполнение традиционных обязанностей.
Наблюдался рост иррационализма. Общество охватила волна суеверий, появилось множество пророчеств и мистических обрядов. Неудовлетворенность в официальной религии вызывала рост интереса к восточным культам, чему способствовало и усиление связей с Востоком. Многие восточные культы стали популярны в Риме – культ Диониса из Греции и Фракии, малоазийские культы Великой Матери и богини Ма, египетский культ Изиды и даже иудейский культ бога Яхве. Более иррациональные, мистические и апеллирующие к эмоциям религиозные течения как бы «освобождали» личность от общественных «зажимов».
Происходили перемены и в жизни провинций. Традиционные методы эксплуатации продолжали сохраняться, а войны и ограбление провинций были не менее разрушительными для их экономики, чем это было ранее. Вместе с тем, появились и элементы нового: римляне стали осознавать необходимость сотрудничества с провинциалами, а гражданские войны показали рост значения провинций. Восток переживал новый подъем, показателем чего стали Митридатовы войны и события 40–30-х гг. I в.
Общественный кризис вызвал кризис семейных отношений. Развод становился обычным явлением, и в ряде событий мы четко видим ситуацию конфликта поколений. Молодой нобиль или всадник, окруженный рабами-воспитателями (обычно греками), был более оторван от старших поколений, чем это было ранее. В противовес общеполисным связям происходило усиление сословной и классовой сплоченности, и I в. был временем расцвета микросообществ – гетерий, аристократических кружков, профессиональных и религиозных коллегий. Показателен и рост женской эмансипации. Женщины стали более свободны в экономическом и бытовом плане, они все чаще имели собственность, а новые формы браков и брачных контрактов вели к тому, что жена не переходила под власть мужа. Именно в эпоху гражданских войн мы видим сильных и образованных женщин высшего света. Это не только светские львицы типа Клодии, участницы заговора Катилины Семпронии или матери Брута Сервилии, но и матроны типа матери Гракхов Корнелии или жены Катона Порции.
В конце II – начале I вв. до Р. Х. шла новая волна эллинизации, которая, быть может, превосходила эллинизацию III–II вв. до Р. Х. по своей интенсивности. Контакты между людьми становились все более и более значительными: возросло число греческих педагогов, секретарей и советников, молодые римские аристократы постоянно посещали Афины и другие центры эллинистической образованности, большинство нобилей хорошо знали греческий язык. Происходило сближение между двумя нациями. Римляне уже не просто копировали греческие образцы, и греки уже начинали видеть в них не «грубых варваров», но равноправного культурного контрагента.
Именно во второй половине II века до Р. Х. в Рим проникли основные философские течения тогдашнего эллинистического мира – эпикурейство и стоицизм. Наиболее значительное воздействие на развитие римской философии и общественной мысли оказал Панэтий (180–100 гг. до Р. Х.). Он был близок к кружку Сципиона Эмилиана, и в 129 г. стал главой Афинской Стои. Особенностью философии Панэтия был известный отход от онтологии и гносеологии и превращение этики в центральную область стоического учения. Он также отказался от типичной для стоицизма идеи господства разума над страстями и считал, что те и другие должны были уравновешиваться. Наконец, стоицизм, а через него и вся греческая философия, примирились с идеей государственности, и стоические добродетели Панэтия сблизились с добродетелями римского политика.
У истоков новой римской историографии стояла фигура другого великого греческого мыслителя – Полибия (200–120 гг. до Р. Х.). Значительный политический деятель Ахейского союза, он попал в Рим в качестве заложника после Третьей Македонской войны (168 г.) и прожил там 16 лет в доме Луция Эмилия Павла. За это время Полибий сблизился с аристократическими кругами Рима, прежде всего с кругом Сципиона Эмилиана, сына Эмилия Павла. Между Грецией и Римом прошла и его оставшаяся жизнь.
Труд Полибия «Всеобщая история» посвящен событиям 264–146 гг. до Р. Х. Однако из 40 книг до нас дошли лишь 5 первых книг и отдельные фрагменты других. По мнению историка, начиная с 220 г. вся история Средиземноморья сходится воедино благодаря завоеванию этого региона Римом. Рим и римские завоевания становятся главной темой «Всеобщей истории». Полибий был первым, кто проанализировал римский государственный строй, использовав для этого схему Аристотеля, согласно которой идеальным строем является сочетание трех нормальных устройств – монархии, аристократии и демократии. И если для Аристотеля это была абстракция, то Полибий нашел этот «идеальный строй» в Римской Республике. Именно это, наряду с волей богов и особыми добродетелями римлян, стало, по мнению Полибия, причиной столь значительных достижений последних. «История» Полибия многому научила римских историков, внеся в их труды критику источников, концептуальность и анализ, т. е. все те достижения, которые греки видели в трудах своих великих историков Геродота и Фукидида, а затем и их последователей и продолжателей.
Впрочем, ведущим направлением римской литературы и, можно сказать, гуманитарных знаний, было ораторское искусство. Причинами его небывалого подъема стали как усложнение судебного процесса и рост образованности общества, так и развитие риторики и обострение политической борьбы, одним из главных видов оружия которой было слово. Теоретическим фундаментом красноречия стала разработанная в эпоху эллинизма риторика, особое значение приобрела ораторская практика, и лучшие ораторы Рима как раз подчеркивали необходимость сочетания практики и теории.
На рубеже II–I вв. до Р. Х. началась полемика между двумя ораторскими направлениями: аттицизмом и азианизмом. Аттицисты настаивали на более простом и лаконичном словесном выражении, беря за образец ораторов Греции V–IV вв. до Р. Х., тогда как азианцы (или азианисты) предпочитали более пышные и вычурные формы эллинистического ораторского искусства, особенно процветавшего в малоазийских городах.
Цицерон, ставший не только наиболее знаменитым оратором Рима, но и историком ораторского искусства, отмечает переход от обычного, т. н. «стихийного» красноречия, когда ораторы полагались только на природное дарование и знание предмета, к более профессиональному мастерству слова, основанному на специальном риторическом образовании. Рубежом становится именно начало политического кризиса, время которого дало немало выдающихся ораторов. Выдающимся мастером выступлений был Гай Гракх, а следующее поколение, видимо, и было временем перелома. Цицерон отмечает в качестве лучших ораторов этого времени консула 95 г. Луция Лициния Красса и консула 99 г., деда будущего триумвира, Марка Антония. Согласно Цицерону, Красс был представителем «ученого» красноречия, основой которого были глубокое знание предмета и общая эрудиция, а слушатели должны были проникнуться убедительностью аргументов и логичностью выводов. Марк Антоний, напротив, больше полагался на внешний эффект, силу слова и эмоциональную окраску речи, рассчитывая не столько убедить слушателя, сколько воздействовать на его эмоции и чувства. Конечно, и то, и другое существовали как тенденции, реальный оратор-практик должен был обращать одинаковое внимание и на содержание, и на форму.
Цицерон считал Красса и Антония лучшими ораторами этого поколения и ставил рядом с ними более молодых политиков – Гая Юлия Цезаря Страбона, трибуна 88 г. Публия Сульпиция Руфа и консула 74 г. Гая Аврелия Котту. Далее шло уже поколение самого Цицерона, наиболее значительными представителями которого считались Квинт Гортензий Гортал (114–50 гг. до Р. Х.), Гай Юлий Цезарь и, наконец, сам Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до Р. Х.), ставший не только самым значительным оратором Рима, что признавали не только его современники, но и последующие поколения, но и нашим главным источником по истории римского ораторского искусства.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Ковалев С. И. История Рима. Л., 1948. (2 изд. Л., 1986 и др.); Машкин Н. А. История древнего Рима. М., 1947 (Изд. 1948, 1950, 1956, 1967 гг. и др.); История древнего Рима / Под ред. А. И. Бокщанина, В. И. Кузищина. M., 1971 (Переиздания 1981, 1994, 2005 гг.); История древнего мира / Под ред. И. М. Дьяконова, И. С. Свенцицкой, В. Д. Нероновой. M., 1982 (Изд. 1987, 1989 гг.).
2
Циркин Ю. Б. Политическая история Римской Империи: в 2 т. СПб., 2018–2019.
3
Корсунский А. Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской Империи и возникновение варварских королевств (до сер. VI в.). М., 1984.
4
Болотов В. В. Лекции по истории древней Церкви. СПб., 1907–1918.
5
Егоров А. Б. Рим: от республики к империи. СПб., 2017.
6
История римской литературы: в 2 т. / Под ред. С. И. Соболевского и др. М., 1959–1962.
7
История греческой литературы: в 3 т. / Под ред. С. И. Соболевского и др. М.; Л., 1946–1960.
8
Inscriptiones Latinae selectae / Hrsg. von H. Dessau. Berlin, 1892–1916. (2 ed. 1954–1955).
9
Cagnat R. Inscriptiones Graecae ad Res Romanas pertinentes. Vol. I–IV. Paris, 1906–1927.
10
Федорова Е. В. Латинская эпиграфика. М., 1969. См. также: Ее же. Люди императорского Рима. М., 1990.
11
Историография античной истории: учеб. пособие / Под ред. В. И. Кузищина. М., 1980.
12
Rostovtzeff M. I. The Social and Economic History of Roman Empire. Oxford, 1926. Русский перевод: Ростовцев М. И. Общество и хозяйство Римской Империи: в 2 т. СПб., 2000–2001.
13
Хвостов М. М. Очерки истории организации промышленности и торговли в греко-римском Египте. Казань, 1914.
14
Моммзен Т. История Рима. Т. 3. СПб., 1995. С. 344.
15
См.: Бокщанин А. Г. Источниковедение Древнего Рима: учеб. пособие. М., 1981. С. 87–88.
16
См.: Там же. С. 77.
17
См., напр.: Jones A. H. M. The Later Roman Empire, 284–602. Oxford, 1981.
18
Jones A. H. M. The Dеcline of the Ancient World. London, 1997. Русский перевод: Джонc А. Х. М. Гибель античного мира. Ростов на/Д, 1997.
19
Историография античной истории. М., 1980. С. 242.
20
Фролов Э. Д. Русская наука об античности: историографические очерки. СПб., 1999. С. 346–347. Об этом споре подр. см.: Историография античной истории. М., 1980.
21
См.: Джонc А. Х. М. Гибель античного мира. Ростов на/Д, 1997.
22
Циркин Ю. Б. Политическая история Римской Империи. Т. 2. С. 536–548.
23
Там же. С. 538.
24
Там же. С. 538–539.
25
Там же. С. 539–559.
26
См.: Банников А. В. На пути к Адрианополю: последняя страница римской военной истории. СПб., 2017. С. 59.
27
См.: Циркин Ю. Б. Политическая история Римской Империи: в 2 т. СПб., 2018–2019.