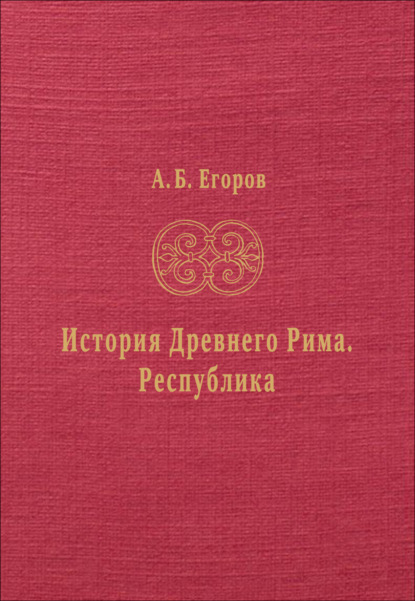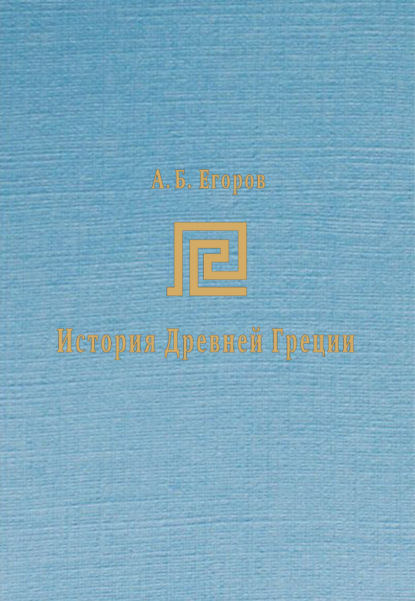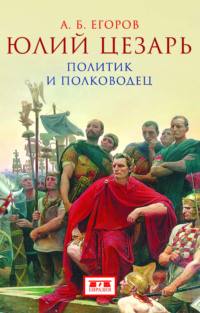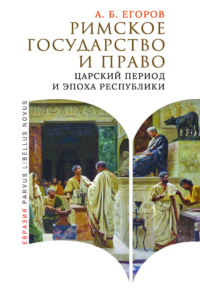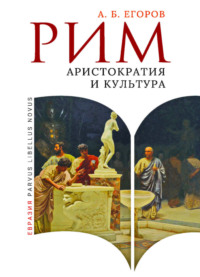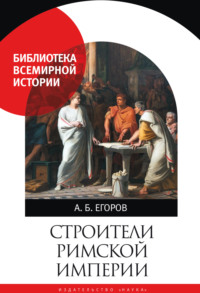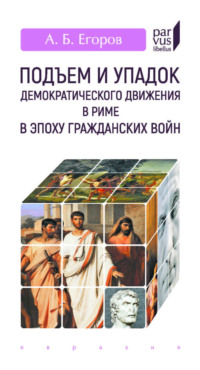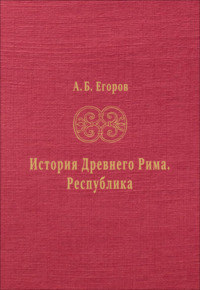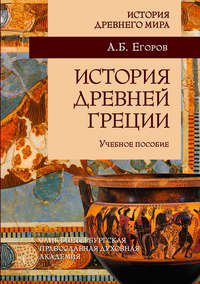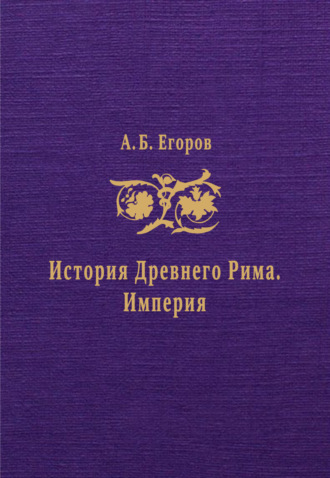
Полная версия
История Древнего Рима. Империя
Мы стоим на фундаменте Империи не только в материальном, но и в духовном отношении. Официально Империя была двуязычной, на западе преобладала латынь, на востоке – греческий язык. Не исключено, что многие жители Империи не знали ни того, ни другого, однако именно латынь и латинская грамматика легли в основу романских (итальянского, французского, испанского, румынского) языков и оказали большое влияние на языки германской группы (немецкий и английский). Греческий язык оказал большое влияние на развитие славянских языков, в т. ч. русского. Латынь оставалась литературным языком вплоть до ХV в., языком науки она была вплоть до ХVІ—XVII вв.
Уровень развития античного общества был настолько велик, что эпоха Возрождения видела в нем эталон для подражания, в ХVIІ—ХVІІІ вв. в нем находили «равноценное общество», a XIX в. стал «веком модернизаторства». Историография XIX в. и даже первой половины XX в. весьма спокойно относилась к разного рода сопоставлениям античности с более поздними историческими эпохами, включая Новое и Новейшее время. Это могло выражаться в крайностях концепций, постоянном использовании современной авторам терминологии или сопоставлении исторических деятелей. Это началось с Т. Моммзена и было продолжено такими учеными как Р. фон Пельман, Г. Ферреро, М. И. Ростовцев и др. Впрочем, гораздо чаще речь шла об относительно свободном использовании понятий более поздней истории применительно к тогдашним событиям или передаче древней понятийной системы современному читателю через термины, которые были ему более знакомы. Уже Т. Моммзен использует такие понятия как «капитализм», «империализм», «анархизм», «дворянство», «парламент», «либералы», «консерваторы» и др. и проводит параллели между империализмом Рима и колониальной политикой великих держав XIX в., римским сенатом и британским парламентом, Юлием Цезарем и Оливером Кромвелем или Наполеоном Бонапартом. Иногда это – часть концептуального подхода, иногда речь идет об амбициях европейских лидеров (от Карла Великого до Наполеона), любивших подобные сравнения, а иногда – просто попытка объяснить менее знакомое историческое понятие через более знакомое современное.
За этими параллелями стояло совершенно естественное стремление показать необычайно высокий уровень античного общества, прежде всего, общества Римской Империи, особенно I–II вв., что и сделали такие выдающиеся ученые как T. Моммзен, А. Валлон, Эд. Мейер, У. Уэстерманн, Т. Франк и Кл. Николе, а также русские исследователи М. И. Ростовцева и М. М. Хвостов. В их трудах было убедительно показано, что Римская Империя была не «загнивающей монархией» или «тоталитарным режимом» (каковым она считалась после 30–40-х гг.), а высокоразвитым обществом с хорошо функционирующей экономикой, известным уровнем политической и религиозной свободы и высоким уровнем культуры.
В то же время появились и другие теории. Вероятно, принципиальная полемика началась со спора между Эд. Мейером (1855–1930), наверное, крупнейшим антиковедом после Т. Моммзена, и другим известным ученым – К. Бюхером (1847–1930). Развивая теории М. Родбертуса, Бюхер установил три фазы развития мировой экономики: 1) ойкосного (т. е. домашнего) хозяйства, 2) городского хозяйства и 3) народного хозяйства. Вся античность, включая Римскую Империю, а также Средние века (до 1000 г.) оказалась «ойкосным хозяйством», фактически лишенным товарообмена. Это вызвало решительный протест Эд. Мейера, создателя знаменитой «циклической теории», а затем и других ученых (Р. фон Пельман, К. Ю. Белох и др.). В России научное сообщество почти единодушно выступило против теорий К. Бюхера (кроме М. И. Ростовцева и М. М. Хвостова). В 20-е гг. идеи Бюхера встретили сочувствие некоторых идеологов марксизма, нашедших параллель с марксистской теорией «рабовладельческого общества», но даже в 30–50-е гг. ученые-антиковеды (например, С. И. Ковалев) попытались выйти из этого опасного тупика. Дискуссия была принципиальной, – имеем ли мы перед собой развитую «працивилизацию», на основе которой стоят и западно-католическая и восточно-православная цивилизации или речь идет о «примитивном обществе», изучаемом современной этнографией.
В 50–60-е гг. XX в. спор возобновился. Одним из его участников стала теория У. Ростоу о пяти стадиях развития человеческого общества: 1) традиционное общество, 2) переходное общество (с начала ХVІІІ в.), 3) сдвиги в промышленной революции (с конца ХVІІІ в.), 4) зрелость (с 1850 г.), 5) общество массового потребления. Далеко не все идет «равномерно»: многие страны мира (в Азии, Африке и Латинской Америке) вообще не вышли за пределы «традиционного общества», и все остальные стадии прошли только страны Европы, США, возможно, Япония и (с большим отставанием) – Россия, Китай и Индия. В ХVІІІ в. в стадию переходного общества вступают только страны Западной Европы, причем, в конце ХVІІІ в. лишь Англия переходит в стадию 3 (сдвиги в промышленной революции), для Франции этот период начался в середине XIX в., России – в конце XIX в.; наконец, в стадию зрелости Англия входит в 1850 г., СШA – в 1900 г., Германия и Франция – в 1910 г., а СССР – лишь в 1950 г. К обществу массового потребления подошли только США, Великобритания, Франция, Германия (ФРГ).
Вероятно, эти выводы не нуждаются в особом комментарии. Отметим лишь, что Россия, вероятно, перестает быть «традиционным обществом» не ранее XIX в. (возможно, в замечательную эпоху победы в Отечественной войне 1812 г. и российского Ренессанса 20–30-х гг., эпоху А. С. Пушкина), начинает сдвиги в промышленной революции при Николае ІІ и вступает в «эпоху зрелости» лишь в 1950 г. Добавим, что Китай и Индия вступают в 1950 г. не в «стадию зрелости», как СССР, а лишь на уровень «переходного общества», и общая идеологическая тенденция станет вполне очевидной.
Нас будет интересовать «традиционное общество», в которое попадают весь античный мир, включая Римскую Империю, Средние века, европейские Ренессанс (ХІV – ХVІ вв.), эпоха Леонардо да Винчи и даже часть эпохи Просвещения. «Традиционное общество» отличается слабым развитием индустрии, ведущей ролью земледелия, господством кровнородственных и общинных связей, ограниченной подвижностью и фатализмом мышления, т. е. представлением о неизменности всех поколений и ограниченностью средств для улучшения своей участи[19].
«Демодернизация» одержала, по крайней мере, частичную победу. В античном мире (в т. ч. в Римской Империи) видят «примитивное», «традиционное» общество, применение к которому современных понятий, как правило, невозможно или, по крайней мере, спорно. Многие современные исследователи либо отказываются, либо крайне осторожно применяют по отношению к Риму даже такие нейтральные понятия как «политическая партия», «парламент», «конкуренция» и т. п. По поводу конкретных терминов можно спорить долго, поскольку все слова имеют не только общий смысл, но и конкретную историческую привязку и свою этимологию, но сторонники этих теорий не находят в Империи ни свободного предпринимательства, ни конкуренции, ни стремления к прибыли, ни развитого банковского дела, ни даже осознанных классовых интересов, ни избирательной системы, ни парламента, ни регионального представительства…
Не будем продолжать эту дискуссию, заметим лишь, что, если модернизация истории несет в себе немало опасностей, то архаизация искажает историческую перспективу намного больше. Подробно излагая суть разногласий между Эд. Мейером и К. Бюхером, Э. Д. Фролов отмечает: «Споры между сторонниками Бюхера и теми, кто пошел за Эд. Мейером, продолжаются и по сию пору. Здесь, конечно, не место входить в его историю и детали, но наше предпочтение мы скрывать не будем; они всецело на стороне противников Бюхера – Эд. Мейера и его последователя, М. И. Ростовцева»[20]. На наш взгляд, все, что мы знаем о Римской Империи, говорит в пользу этого утверждения.
Остается, быть может, последний вопрос – почему пала Римская Империя? Представители языческой традиции (от Цельса до Зосима) обвиняли христиан в упадке военной мощи Империи, христиане же (блж. Августин, Сальвиан, Павел Орозий и др.) видели в судьбе Империи расплату за грехи языческого Рима. Позже обвинения против христиан подтвердил Эд. Гиббон, обвинивший их в моральном разложении языческого общества. Отметим несправедливость обвинений, – последние века Империя держалась именно благодаря христианам, а Церковь, возможно, сама того не желая, сохраняла античное наследие.
В ХVІІІ—XIX вв. многие ученые делали преимущественный акцент на внутренних проблемах Империи. Эти теории довольно подробно рассмотрены А. Джоунзом[21]. Автор отмечает многочисленные проблемы экономики (примитивность сельского хозяйства и лежащая на нем огромная налоговая нагрузка, чрезмерные затраты на армию и бюрократию, депопуляция и нехватка рабочей силы, слабое развитие индустрии и большая численность непроизводящих классов), политические (избыточная бюрократия, ее неэффективность и коррупция) и военные (разделение на comitatenses и лиметанов, варваризация армии, массовое предательство «варварского» командования) факторы, однако его основной вывод заключается в том, что рухнуть изнутри Империя не могла, и главным поражающим фактором все-таки было собственно варварское вторжение. Примерно к такому же выводу приходит Ю. Б. Циркин, делая при этом некоторые важные дополнения[22]. Так, отмечая коррупцию и другие дефекты римской бюрократии, он отмечает «невозможность в римских условиях сделать бюрократическую систему столь значительной, чтобы пронизать ей всю систему управления»[23]. В Империи не было развитого государственного хозяйства, и императорам было все труднее и труднее контролировать местных олигархов и местную власть, которая реально находилась в их руках. Решить эту проблему Империя не смогла[24].
Другая интереснейшая мысль автора заключается в том, что Рим пережил три системных кризиса: 133–31 гг. до Р. Х. (кризис гражданских войн), кризис 235–284 гг. Р. Х. (кризис III в.) и покончивший с Западной Империей кризис 379–476 гг.[25] Попробуем последовать за автором и рассмотреть эту тему подробнее, и тогда события IV–V вв., может быть, станут более понятны, и мы увидим действительно героическую и трагическую историю.
Юлий Цезарь сумел сформулировать свою программу одной фразой: «покой для Италии, мир для провинций и безопасность для Империи» («quietem Italiаe paсem provinciarum, salutem imperii» (Caеs, B. C., III, 57)). B этой фразе был глубочайший смысл: первое означало отсутствие смут и гражданских войн, второе – безопасность провинций и отсутствие провинциальных восстаний, третье – безопасность от внешнего врага. В самом деле, внешнее вторжение (даже при наличии огромных сил) имеет мало шансов на успех без поддержки изнутри, провинциальное восстание без поддержки извне или из центра, как правило, обречено на поражение, а выступление в столице без поддержки в регионах превращается в обычный заговор, как правило, раскрываемый и подавляемый. Чаще всего в римской истории эти три фактора действовали вместе, и важно было не допустить, чтобы их взаимодействие достигло критического уровня.
Республиканский Рим уже имел опыт подобных ситуаций. Первым был кризис 510–474 гг., когда Рим добился независимости от этрусков и создал Республику, вторым – галльский кризис 390–366 гг., когда Рим фактически завершил борьбу сословий и стал сильнейшей державой центральной Италии. Третий кризис (219–179 гг. до Р. Х.) был более глобальным, когда Ганнибал бросил на Рим весь тогдашний цивилизованный и варварский мир. Рим выстоял, разбив Карфагенскую, Македонскую и Селевкидскую империи и их союзников – галлов и испанцев.
Кризис 133–31 гг. до Р. Х. был самым страшным из всех. После серии войн 50–30-х гг. II в., происходивших по периметру римских владений (Испания, Македония, Греция, Сицилия), в 149–146 гг. до Р. Х. было нарушено одно из трех условий Цезаря – «покой Италии», и в Риме начались гражданские войны, началом которых стало движение Гракхов (133–121 гг.). Следующая фаза оказалась самой тяжелой: нашествие германцев (113–101 гг.), Союзническая война (91–83 гг.), война с Митридатом (89–85 гг.), гражданская война 83–82 гг. и власть Суллы (81–78 гг.) поставили Рим на грань гибели, и только войны 70-х гг. до Р. Х. остановили его у роковой черты.
Выход из следующего кризиса был связан с Цезарем. В 58–51 гг. он победил самого опасного врага Рима – галлов и германцев, в 49–48 гг. разбил силы помпеянских олигархов, тогда как 47–45 гг. стали временем установления «мира в провинциях» и разгрома вассальных царей (Юба, Фарнак, Птолемей XIII). В 44 г. Империя имела уникальный шанс полного разгрома своих противников (Парфии, даков и германцев), что исключило бы серьезные восстания в провинциях и гражданские войны. План Цезаря не удался, но даже благодаря тому, что было сделано, вплоть до III в. угрозы существования Империи не было.
События 44–31 гг. стали роковыми. Кровавые войны: Мутинская (43 г.), Филиппинская (42 г.) и Перузийская (41–40 гг.), тяжелая война с Парфией (41–36 гг.), а затем и борьба цезарианских лидеров (36–31 гг. до Р. X.) обескровили сверхдержаву. Это была рана, которую Август пытался излечить, сделав все возможное, однако она во многом определила будущую судьбу Империи.
Последовали принципат Августа (31 г. до Р. Х. – 14 г. Р. Х.) и создание огромной Империи (включившей в себя Испанию, Галлию, Италию, северную Африку, Балканы, Сирко, Малую Азию и Египет) площадью в 5 млн кв. км и населением в 80 млн человек. Создав Империю, Август в то же время не смог решить ее военные проблемы. Наступление растянулось, а война 5–17 гг. на Рейне и Дунае обеспечила внешнюю безопасность. Казалось, что Август выполнил программу Цезаря, – границы были под защитой, а провинциальные восстания не представляли угрозы для Империи.
Впрочем, период 14–68 гг. был не только продолжением августовского процветания, но и временем «ползучей» гражданской войны. Эта война приняла форму процессов об оскорблении величия при Тиберии (14–37 гг.) и едва не вылилась наружу при Калигуле (37–41 гг.), закончившись убийством императора (41 г.) и попыткой восстановить Республику. Война затихла при Клавдии (41–54 гг.), но активизировалась при Нероне (58–68 гг.).
Казалось, Рим после Цезаря и Августа застрахован от настоящей гражданской войны, однако последовали убийство Агрипины (58 г.), поражение в войне с Парфией (55–66 гг.), репрессии 58–68 гг., грандиозный пожар Рима (64 г.) и заговор Пизона (65 г.), восстание Боудикки (61 г.) и Иудейская война (66–78 гг.), наконец, гражданская война (69 г.) и восстание Цивилиса (69–70 гг.). Кризис 58–70 гг. стал первой «точкой невозврата».
После веспасиановской стабилизации (70–31 гг.) Рим оказался в кризисе, аналогичном кризису 60-х гг. при Домициане (81–96 гг.), и едва не стал жертвой новой гражданской войны, а Дакийская война 85–88 гг. показала усиление внешнего противника. Эпоха Траяна (98–117 гг.) стала последним наступлением Рима, императору удалось установить долгосрочный внутренний мир и стабильность и надолго обезопасить северную границу (Дакийские войны 101–102 и 105 гг.), и хотя Парфия не была разгромлена в ходе восточного похода (113–117 гг.), она осталась довольно слабым противником. Снова возникло представление о том, что программа Цезаря все-таки выполнена, и Империя получила долгий мир (117–160 гг.). Однако правители Империи понимали его относительный характер. Адриан (117–138) начал грандиозную программу строительства лимесов, а ошибки в провинциальной политике привели к восстанию Бар-Кохбы в Иудее (132–135 гг.). Похоже, что не было столь спокойным и долгое правление Антонина Пия (138–161).
Переход к обороне был связан с правлением Марка Аврелия (161–180). Империя выдержала две больших войны: Парфянскую (161–165) и Маркоманнскую (166–180). Армии Марка Аврелия разгромили Парфию и были на грани полной победы над квадами и маркоманнами, а заключенный Коммодом мир во многом стал причиной внутреннего конфликта, продлившегося все его правление и завершившегося гражданской войной 193–196 гг.
Септимий Север (193–211) смог добиться стабилизации благодаря усилению монархической власти, армии и бюрократии, а также усилению роли провинций, особенно Африки и восточных регионов, однако при его сыне Каракалле (211–217 гг.) милитаризация и репрессии привели к новой волне гражданской смуты 217–223 гг. Правление Александра Севера (223–238) стало реакцией на правление первых Северов и попыткой вернуть антониновскую систему. В правление Александра Севера резко ухудшилось внешнеполитическое положение. Старые противники, германские племена Рейна, объединились в племенные союзы (франки, алеманны) и получили подкрепление за счет восточных германцев (готы, бургунды, вандалы, гепиды и др.). На восточной границе вместо слабой Парфянской державы появилась мощная Персидская империя Сасанидов. Александр Север был вынужден вести войну с персами (230–231), а его преемник, Максимин Фракиец (235–238) – с германцами. Правление Максимина (235–238), несмотря на победу, вылилось в репрессии и закончилось гражданской войной, в которой столкнулись военные и гражданские круги. Победителя не было…
Начался кризис 238–285 гг., наверное, самый опасный в истории Империи. Войны 30–40-х гг. стали прелюдией к войнам 50–60-х гг. Катастрофа началась с поражения Деция под Абриттой (250 г.) и тяжелой гражданской войны 253 г., причем эта война привела к власти Валериана (253–260), сделавшего соправителем своего сына Галлиена (253–268). Галлиен и стал спасителем Империи. Наступление шло со всех сторон: готы опустошали Балканский полуостров, алеманны – Паннонию, Рецию и Италию, Франки – Галлию. Развал обороны вызвал бесконечные узурпации («30 тиранов») и распад Империи на три части (Галльская империя, Пальмирское царство и собственно Империя, из которой власть контролировала только Италию). Невероятный упадок экономики привел к потере большинства достижений I—ІI вв.
Галлиен защищался: победа над франками (254 г.), алеманнами (256 г.) разгром узурпаторов Ингенуя и Региллиана (258 г.), победа над Постумом (262 и 265 гг.), – таков лишь самый общий перечень его успехов на Западе. Восток распался после разгрома Валериана под Эдессой (260 г.), а его единство удерживалось лишь благодаря правителю Пальмиры Оденату, разбившему персов в 260 и 262 гг. и сохранившему союз с Галлиеном.
В тяжелейших условиях Галлиен сохранил Империю и армию, и в 260 г. принял эдикт о разрешении христианства, положив конец гонению Деция и Валериана (250–258 гг.). Император погиб, не увидев победу своего дела, но ее одержали его военачальники (Клавдий, Аврелиан и Проб.) Клавдий II (268–270) нанес сокрушительное поражение готам, после чего эта угроза исчезла до 30-х гг. IV в. Аврелиан (270–275) разбил алеманнов и ютунгов (270–271) и уничтожил Пальмирское царство (272–273) и Галльскую империю (273–274). Проб (276–284) разгромил франков в Галлии. Военную реставрацию завершил Диоклетиан (284–305), а также его соправители Максимиан, Констанций Хлор и Галерий. К 293 г. границы были надежно защищены.
Впрочем, заслуга Диоклетиана и его соправителей была в другом, а именно в гражданских реформах (административная, финансовая, военная, налоговая), которые определили будущую систему Империи. Реформы оцениваются по-разному: и как создание процветающего общества Поздней античности (Г. Л. Курбатов), и как создание огромной бюрократической машины, разорившей население бременем налогов. Доля истины есть и в том, и в другом, но, на наш взгляд, важно то, что Империя получила 20 лет мира. Мир был разрушен вначале гонениями на христиан в 305–313 гг., а затем – гражданскими войнами 311–325 гг. Эффект был различным, – начавшись как попытка разгрома христиан (303–305 гг.), гонение стало прекращаться после смерти Диоклетиана. В 305 г. это происходило в области Константина (Галлия, Испания, Британия), затем в Италии и Африка, а в 311 г., после эдикта Галерия, и на Балканах. В 313 г. Миланский эдикт сделал христианство «дозволенной религией» (religio licita), а разгром Максимина Дазы Лицинием завершил этот процесс. Гражданские войны имели совсем иные последствия: в битвах у Мульвиева моста (312 г.), Адрианополе (313 г.), Кибалах (314 г.) и Хрисополе (324 г.) Империя потеряла гораздо больше, чем во многих внешних войнах. Ещё одним следствием была военная реформа Константина – разделение армии на comitatenses и лиметанов. Исследователи по-разному оценивают эту, в целом, вынужденную реформу, но важнее было то, что войны 311–325 гг. принесли Империи огромные потери.
Два других новшества Константина во многом определили будущее Империи. Константин Великий (305–337) в целом продолжил административные и финансовые реформы Диоклетиана, сделав особый акцент на развитии центрального аппарата (консистория, двор, ведомство магистра оффиций), а в 307–334 гг. провел ряд успешных кампаний против готов, франков, сарматов и даков, надолго обезопасив северные границы[26]. В конце своего правления он готовил большую войну с персами, которыми правил Шапур II (309–379 гг.).
Миланский эдикт (313 г.), как уже говорилось, превратил христианство в дозволенную религию. Итогом стали I Вселенский Собор в Никее (325 г.) и серия прохристианских законов 20–30-х гг. IV в. Однако были и проблемы, т. к. христиане составляли около 10 % населения (при Константине их стало существенно больше), и в обществе были сильны антихристианские настроения. Наконец, Вселенский Собор не прекратил, а начал борьбу православия с арианством, равно как и обострил локальные ереси (донатизм, мелетианство и др.). После Константина эти проблемы стали уже не только внутрицерковными, но и общегосударственными. Вокруг этих проблем было много споров и в древности, и в современной историографии, но, вероятно, Константин нашел единственную силу, способную обеспечить духовное единство общества.
Другой акт куда более бесспорен. Основанный в 330 г. Константинополь многократно спасал от верной гибели, хотя его появление было, конечно, событием, способствовавшим отделению Востока Империи. Вероятно, пришло осознание, что Рим может рухнуть, и, не имея возможности спасти целое, Империя спасала часть.
IV в. стал временем нарушения всех трех условий Юлия Цезаря. В 337–350 гг. с перерывами на востоке шла нескончаемая война с Персией, с ее осадами Нисибиса (337, 339, 350), битвой при Сингаре (348 г.), осадой Амиды (359 г.), за которыми последовал поход Юлиана (361–362 гг.) и мир 364 г., после чего положение на восточной границе стабилизировалось, а после битвы при Бавагане (371 г.) и смерти Шапура ІІ (379 г.) персидская граница стала спокойной до начала IV в. Хотя Империя держала здесь около трети, а Византия – более половины армии, что сковывало ее положение на Западе, это стало залогом выживания Восточной Империи.
Гражданские и, по сути, религиозные войны были не менее опасны. После 327 г. Константин поддержал арианство, в 337–359 гг. при Констанции II ариане были «партией власти» в восточной части Империи, а после 351 г. – и на Западе. Император шел против церковного большинства, при этом лидером и символом сопротивления стал Афанасий Великий (295–383 гг.). Изгнанный Константином из Александрии Афанасий нашел поддержку в лице папы Юлия и императора Константа, настоявших на его возвращении в Александрию (345 г.) Положение изменилось после 359 г., когда Констанций стал единственным императором, а Соборы в Арелате (354 г.) и Милане (355 г.) и новое изгнание Афанасия (356 г.) ознаменовали полную победу арианства.
Взяв курс на подавление язычества, сыновья Константина оказались ответственными за ряд опасных событий. В 350 г. переворот Магна Магненция, поддержанный варварами и проязыческими кругами в верхах римского общества, привел к гражданской войне 351–353 гг. и кровавой битве при Мурсе (351 г.). Констанций сохранил единство Империи, но цена была исключительно высокой.
Переворот Магна Максима вызвал мощное вторжение франков и алеманнов в Галлию, принявшее катастрофические размеры в 355 г. Юлиан отразил нашествие, но затем последовала языческая реставрация, резко изменившая общее положение.
Как ни парадоксально, реставрация Юлиана нанесла главный удар именно по арианству. Никейцы на Западе одержали полную победу, отчасти найдя общий язык с проязыческой знатью. Арианство еще держалось благодаря поддержке императора Валента (364–379), но на Западе уже правил никеец Грациан (367–383), а Феодосий I (379–395), фактически правивший всей Империей, велел передать все арианские церкви никейцам. В мае 381 г. II Вселенский Собор в Константинополе окончательно осудил арианство как ересь. Церковь стала единой и правящей. Конечно, победить раскол в Церкви могла только она сама. Духовными лидерами православия стали руководители «каппадокийского кружка» Григорий Назианзин (Богослов), Василий Великий (Кесарийский) и Григорий Нисский.
В 365–375 гг. Валентиниан удерживал границу против алеманнов (363–365), восстановил положение в Британии (367 г.) и подавил восстание Гильдона в Африке (372 г.). Валент подавил восстание Прокопия (365–366), ставшее следствием реставрации Юлиана, сторонники которого пытались сохранить власть. В 367–369 гг. он победил готов, заключив с ними мир. Казалось, все три границы стабилизировались.