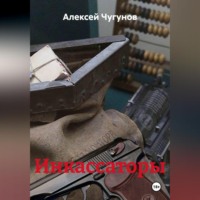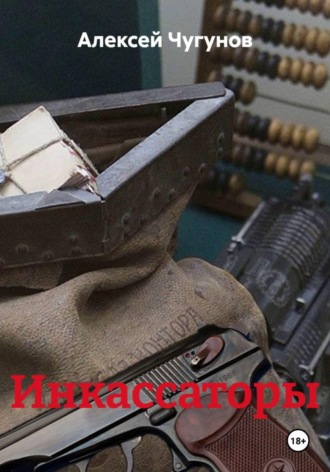
Полная версия
Инкассаторы 70-х

Алексей Чугунов
Инкассаторы 70-х
Глава 1
Набитый под завязку и промерзший насквозь старенький троллейбус тащился по городским улицам, скрипя всем корпусом и реагируя крупной дрожью даже на незначительные неровности на дороге. Был вечер 31 декабря 1977 года. Переполненный салон гудел от разговоров, шуток и смеха. Приближался праздник. Люди спешили к новогоднему столу. Кто-то уже начал отмечать. У окна, затянутого толстым слоем инея, сидел тщедушный мужичок с остекленевшими глазами и с интервалом в минуту делал попытки затянуть срывающимся голосом «ой, мороз, мороз, не морозь меня…». Но ему не давали: всякое творческое поползновение пресекалась сердитыми женскими окриками и требованиями прекратить орать в общественном месте. Мужичок послушно умолкал, но через минуту все повторялось сначала.
Мы, то есть я ‒ Алексей, двадцати четырех лет от роду ‒ и моя подруга Аня стояли на задней площадке в самом центре толпы, плотно прижатые друг к другу. Ни до одного из поручней дотянуться было невозможно. В задней части салона верхний поручень просто-напросто отсутствовал, а то, что от него осталось ‒ пара торчащих из потолка салона кронштейнов, ‒ было плотно облеплено руками нескольких счастливчиков. Дела у тех, кто остался без опоры, в том числе у нас с Аней, обстояли неважнецки: любое изменение скорости движения троллейбуса, не говоря уже о поворотах, заставляло толпу, семеня ногами и наступая на соседские башмаки, какое-то время двигаться по инерции. Направления были разными и менялись с периодичностью в несколько секунд. Ограничителем принудительных «танцев» служили упомянутые «счастливчики», имевшие возможность за что-либо держаться. Окружая со всех сторон неустойчивый центр, они мужественно гасили его кинетическую энергию откляченными задами и выпяченными животами. Такое положение не могло не вызывать у потрепанных пассажиров ассоциацию с прорубью и болтавшейся в ней небезызвестной субстанцией. Некоторые невыдержанные граждане даже решились озвучить эту народную мудрость вслух.
Ехали мы в гости к Аниным знакомым из одного конца города в другой. Троллейбус шел до центра и лишь уполовинивал расстояние. Дальнейшее путешествие могло оказаться еще сложнее, но тут уж как повезет. Дело в том, что новый микрорайон «Высотки», куда мы направлялись, рос как на дрожжах, при этом транспортная составляющая хромала сразу на обе ноги. Сдача обещанного трамвайного маршрута затягивалась, и перевозкой по-прежнему занимались небольшие автобусы, ходившие из рук вон плохо и безо всякого расписания. Жителей выручали «леваки», то есть принадлежавшие различным конторам автобусы, водители которых использовали свободное время для дополнительного заработка. Общественный транспорт в предновогодние вечера во всем городе ходил плохо, а уж в сторону «Высоток» его можно было и вовсе не дождаться. Оставалось рассчитывать на везение.
Наконец троллейбус затормозил на нужной остановке. В салоне к тому времени стало посвободней, и мы без приключений выбрались наружу. На улице холодно, температура опустилась ниже 25 градусов. Наискосок через дорогу высилась серая громада областного банка, построенного еще при царе на сваях из обожженного дуба. Там я служил инкассатором. Полное название учреждения звучало так: Областная контора Госбанка СССР.
Оказавшись на тротуаре, мы осмотрели друг друга при свете фонарей и рассмеялись: обувь пестрела следами протекторов чужих подошв, шапки съехали набок, а шарфы повылезали из пальто, словно кто-то третий пытался их стянуть с нас, но по неизвестным причинам не довел задуманного до конца. Зато все пуговицы на одежде были целы. Это утешало ‒ в такую холодрыгу пуговицы не помешают. Нам еще предстояло пройти два квартала до другой остановки, а затем терпеливо ждать нужного транспорта, возможно, «до посинения».
Пока приводил одежду в порядок, подумал: а не зайти ли к ребятам в банк. Может, кто-то из водителей согласится подбросить нас до «Высоток». Хотя вряд ли. Время неудачное ‒ около восьми вечера. Все, кто в графике, находились на вечерних маршрутах, а те, кто отработал днем ‒ уже давно дома. Но чем черт не шутит, рассуждал я.
‒ Забегу в банк ненадолго, узнаю насчет машины, ‒ сказал я Ане. ‒ Вдруг повезет. Сопли заморозить на остановке всегда успеем.
‒ Только не задерживайся. Я пока в магазин зайду.
‒ Ладно, я быстро.
Взять с собой Аню я не мог ‒ для посетителей банк был открыт только до обеда. Сам же мог заходить в любое время, так как рабочий день у инкассатора был ненормированным. Взбежав по гранитным ступеням и оказавшись в просторном тамбуре между входными и внутренними дверями, я поздоровался за руку с охранником Василием, которого хорошо знал, поздравил его «с наступающим» и двинулся было к внутренней двери, но не тут-то было. Парень не отпускал мою руку.
Я взглянул на Васю повнимательнее и обнаружил, что тот немало озадачен: форменная фуражка едва держалась на затылке, вытаращенные глаза свидетельствовали о наличии переполнявшей его голову важной информации, а непрерывное потирание подбородка пальцами левой руки говорило о растерянности или неполном осмыслении той самой информации, которой он был напичкан. Притянув меня за рукав, охранник привстал на цыпочки, поскольку был ниже на полголовы, и прошептал в самое ухо, хотя рядом никого не было: «У вас там ЧП. Если выпивши, не ходи».
Слова «у вас» означали: в отделе инкассации, который располагался на первом этаже справа от входной двери. Я почувствовал досаду: не повезло. Раз ЧП, то о машине можно забыть. При ЧП никто из водителей не рискнет отлучаться из банка, чтобы обеспечить мне комфортную поездку в «тьмутаракань».
Василий хотел добавить что-то еще, но в этот момент фуражка соскользнула с его затылка и шлепнулась козырьком вверх на пол, мокрый от растаявшего снега, который нанесли на своих башмаках входившие с улицы люди. Чертыхаясь, он отпустил мою руку, быстро поднял фуражку и начал стряхивать с нее воду.
Не став дожидаться продолжения, я приналег на массивную дверь, ведшую в вестибюль, одновременно проклиная в душе того гада, кто позволил себе напиться раньше времени. Я был уверен, что дело именно в пьянке: ну какое еще, скажите на милость, происшествие может случиться в канун Нового года? Наверное, поэтому меня не очень удивило распростертое на кафельном полу мужское тело с расстегнутыми по всей длине рубашки пуговицами и в приспущенных брюках. Это был молодой инкассатор Артур. Он лежал на спине с раскинутыми в стороны руками, метрах в двух от двери в наш отдел. Картина, конечно, была из ряда вон… Подобного под сводами самого авторитетного здания в городе (после обкома, естественно) мне наблюдать еще не доводилось…
«Действительно ЧП, ‒ подумал я, неприязненно глядя на Артура. ‒ Угораздило же так нажраться»…
Глава 2
В советские времена слово «корпоратив» не употреблялось, но это вовсе не означило, что в канун праздников сослуживцы не поздравляли друг друга и не накрывали праздничные столы. Правда, делалось это келейно и, как правило, на собственные деньги ‒ в складчину.
В большинстве своем народ с удовольствием шел на работу 31 декабря, особенно если это предприятие или учреждение с нормированным рабочим днем. Сотрудники прибывали принарядившимися и с сумками, в которых лежало выполненное «домашнее задание»: салаты, пироги, торты, алкоголь, соки и другие продукты, предназначенные для посиделок. Делами занимались (или делали вид, что занимались), как правило, до обеда. Затем могло быть короткое общее собрание, и уж после него переходили к основной программе дня ‒ застолью. В больших учреждениях столы накрывались в каждом отделе. Долго не засиживались, особенно замужние женщины, которым еще предстояло напряженно потрудиться дома, чтобы создать для семьи праздничную атмосферу.
Совсем по-другому чувствовали себя сотрудники аварийных служб, пожарных частей и правоохранительных органов, заступавших в этот день на дежурство. Одни, обычно это молодые люди, сетовали на судьбу-злодейку и ругали начальство, не дававшего им продыху, другие относились к дежурству подчеркнуто спокойно, а третьи подмигивали коллегам и, как бы в предвкушении, потирали руки.
Последние ‒ потенциальные залетчики, принесшие с собой спиртное. Они выпивали сами и подбивали к этому сослуживцев, заверяя их, что дежурство пройдет гладко, и никто ничего не заметит. А если что и произойдет, то никто особо принюхиваться к ним не будет ‒ ведь начальство и граждане тоже празднуют, значит, наверняка будут поддатыми. Кроме того, имеется мускатный орех, который напрочь убивает запах алкоголя, уверяли подмигивающие оптимисты.
Доля истины в этом рассуждении есть, но только доля. Лично мне доподлинно известны случаи, когда на место происшествия или просто для проверки в праздничную ночь приезжали абсолютно трезвые и дотошные начальники. Таких мускатным орехом не проведешь.
Что касается нашего отдела инкассации, то никаких столов, ни по какому поводу там никогда не накрывали. Даже идея такая не обсуждалась. Табу. В сравнительно небольшом помещении постоянно находились начальник, заместитель и дежурный, позади которого стоял большой железный шкаф с оружием. Справа от входа ‒ оружейная комната с окошком напротив дежурного. Через него он передавал нам перед оправкой на маршруты пистолеты Макарова с двумя магазинами и колодку с шестнадцатью патронами. Оружейка была обита оцинкованным железом, вдоль стен тянулись широкие прочные полки. Их использовали для заряжания и чистки пистолетов. Сдать после работы грязное оружие было невозможно. Опытные дежурные, сами в прошлом инкассаторы с многолетним стажем, следили за этим строго.
Были в железном шкафу и автоматы, точнее пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ) образца 1941 года. На них нужно было иметь отдельное разрешение, и выдавались они при выездах в командировки ‒ один на команду инкассаторов. Мне это оружие нравилось ‒ на 50 метров било точно, а скорострельность просто поражала. В реальных условиях использовать ППШ не довелось, и слава Богу.
«Посиделки» в отделе устраивались лишь в трех случаях: для проведения общего собрания, еженедельной политинформации и ежедневного инструктажа перед выездом на маршруты. Каждой бригаде в течение рабочего дня нужно было обслужить два маршрута. Делились они условно на дневной и вечерний. Были также один поздний и пара утренних. Утренние маршруты, как правило, доставался нашим «аксакалам» предпенсионного и пенсионного возраста. Он заключался в развозе наличности по городским сберкассам. После обеда та же бригада забирала у них излишки и привозила обратно в банк. К пяти вечера «аксакалы» были уже свободны. Правда, ложка дегтя в этой «блатной» работе всё же имелась: утром, помимо развоза наличных денег, старикам приходилось инкассировать ТТУ (трамвайно-троллейбусное управление) и автобусный парк. То есть таскать мелочь, упакованную в алюминиевые чемоданы числом от пятнадцати до двадцати. Чемоданы были хоть и небольшими, но тяжелыми ‒ даже молодые кряхтели от натуги. В ТТУ тащить их нужно было по узкой дорожке метров тридцать. Ближе машина подъехать не могла из-за разбитых перед входом двух огромных клумб. Когда деньги сдавала кассир по имени Зина, высокая, крупнотелая и веселая женщина, старички приободрялись ‒ не было случая, чтобы она не помогла им в перетаскивании «багажа». Как-то (еще до моего прихода) Зина в шутку обратилась к нашему Ивану Николаевичу, ветерану Великой Отечественной войны, самому крупному мужчине в отделе:
‒ Сдавил бы ты меня, Ванечка, своими лапищами. Соскучилась я по мужицкой силе. Изменять жене не обязательно, просто обними покрепче.
Иван, включаясь в игру, подошел к Зине.
‒ Разве что не изменяя, ‒ сконфуженно пробубнил он, неуклюже обхватывая женщину «лапищами».
Та притворно ойкнула и повела глазами, изображая блаженство. Потом, отсмеявшись, расправила мясистые плечи, ухватила за ручки два чемодана и повернулась к инкассаторам.
‒ Чего застыли, гусары? Давайте грузиться, что ли?
С тех пор «обнимашки» и совместное перетаскивание «багажа» стали традиционным мероприятием. В этом я убедился сам, попав однажды на ранний маршрут вместе с Николаевичем. Позже мне рассказали, что у Зины есть муж и что живут они душа в душу не один десяток лет. Вот только ста́тью супруг не вышел: был он невысокого роста и худощав.
Еще одно неудобство заключалось в выделяемом для этих маршрутов транспорте. Ни один из стареньких легковых автомобилей, имевшихся в то время в распоряжении отдела, общего веса чемоданов выдержать не мог, да они бы туда просто не поместились. Поэтому «аксакалам» выделялся грузовой фургон с диагональными белыми полосами по бокам и табличкой «Связь» на лобовом стекле. Чаще это был полуживой ГАЗ-51. Так что и по части комфорта ранний маршрут проигрывал. Единственным его плюсом, который, однако, с избытком перекрывал все минусы, оставалась возможность провести вечер по своему усмотрению.
Глава 3
Употребление спиртных напитков на работе считалось чрезвычайным происшествием, но не всегда заканчивалось увольнением. Учитывались степень опьянения провинившегося («экспертиза» проводилась дежурным или начальником, если тот был в отделе, на глазок), его поведение в момент фиксации «алкогольной интоксикации» (лучше сразу во всем признаться и раскаяться, повесив голову), а также «былые заслуги», заключавшиеся в отсутствии взысканий, добросовестном отношении к служебным обязанностям и участии (без этого никак) в общественной жизни коллектива. При удачном раскладе нарушителя трудовой дисциплины прощали, но рублем все равно ударяли ‒ лишали квартальной премии. Неприятно, конечно, зато послужной список оставался безупречным.
А соблазнов у инкассатора на маршруте было немало, особенно в праздники. Втихаря отмечали практически во всех магазинах ‒ и в промышленных, и в продуктовых. Старшие кассиры, сдававшие деньги, всегда радовались прибытию инкассатора, поскольку, ожидая его приезда, были вынуждены сидеть в одиночестве в своих кабинетиках-клетках, выключенные из бурной застольной деятельности коллег по торговой точке.
Многие из них, сдав сумку с деньгами, просили задержаться «на секунду», куда-то уносились и быстро возвращались, держа в руках рюмку водки и бутерброд с чем-нибудь дефицитным, например, с «Московской» копченой колбасой или красной икрой. Ну, от вкусного бутерброда отказываться глупо, да и мало кто отказывался. Тем, кому не довелось испробовать советских копченых колбас ‒ «Московской» и «Сервелата», ‒ действительно изготовленных по ГОСТу, на всякий случай поясню: одноименные изделия, наводнившие российские прилавки после развала страны, оказались по сути лишь жалкой пародией на классические произведения «гастрономического искусства», созданные в СССР. В открытой продаже этот продукт в нашем городе практически не встречался, директора магазинов с такой изобретательностью прятали его от ОБХСС и контролирующих организаций, что найти заначку, не зная местонахождения, было нереально. Однажды, перед ноябрьскими праздниками, директриса небольшого магазина, сдавая деньги, посмотрела на меня влажными глазами и сообщила, что давно ко мне присматривается, и каждый раз, когда я приезжаю, не может сдержать слез ‒ уж очень я похож на ее любимого сыночка, которого полгода назад забрали в армию. Потом, вытерев слезы и накинув рабочую телогрейку, женщина махнула мне рукой, приглашая следовать за ней. Через заднюю дверь мы вышли к пристройке, где складировалась освобожденная от продуктов тара. Открыв секцию с пустыми бидонами из-под молока и сметаны, она вынесла на улицу несколько емкостей и по проделанному коридору пробралась к нужной, вытащив из нее две палки «Московской» колбасы. Одну, побольше, она вернула на место, другую, поменьше, передала мне, предварительно завернув ее в обрывок оберточной бумаги. «Ничего себе, тайник. В жизни не догадаешься», ‒ подумал я, залезая в карман за деньгами. Директриса мою попытку рассчитаться пресекла словами: «Это подарок от меня, на праздник». Сегодня многие наверняка обиделись бы на знакомых за подобный презент, но в середине 70-х съестной дефицит фактически уподоблялся ценным вещам, превосходя по значимости какой-нибудь там одеколон вместе с хлопчатобумажными носками. Лично я был польщен и, принимая маленький сверток, уже представлял округлившиеся от удивления глаза друзей, получивших на закуску «нечто слюноотделительное». Так Сашка, мой товарищ со школьной скамьи, называл весь дефицит, продаваемый из-под полы.
А что касается предложенной рюмки… К ней лучше не прикасаться, проигнорировать. Ибо привести она может к последствиям весьма печальным. После первой ободряющей, скорее всего, последует вторая, третья, четвертая… и так далее, по числу оставшихся на маршруте магазинов. Молодой организм обычно требует продолжения «банкета». После новых возлияний инкассатор начинает чувствовать себя героем, нарочито грубо проталкиваться сквозь толпу, хамить возмущенным гражданам и демонстрировать готовность померяться силой. Бдительность теряется, появляется риск принятия негодной (неправильно опломбированной либо поврежденной) сумки, а то и вовсе ее утраты. В общем, неприглядная картина. Подобное случалось редко, но все же случалось. От таких «героев» освобождались быстро и решительно. Большинство же ребят либо отвергали угощения, либо умели вовремя остановиться. О том, что они приняли на грудь, говорили лишь двигавшиеся челюсти, перетиравшие кусочек мускатного ореха или лавровый лист. Жевательные резинки в то время не продавались.
Наш автомобильный парк состоял из нескольких легковых «газиков», прозванных в народе «бобиками», в основном с брезентовым верхом, двух «уазиков», двух «Волг» (ГАЗ-21 и ГАЗ-24 первого выпуска) и латанного-перелатанного «Москвича-408». Грузовые автомобили были представлены двумя фургонами на базе ГАЗ-51 и ГАЗ-52. Понятие о бронированных кузовах отсутствовало напрочь. Связи тоже не было. Основным критерием исправности машины был: ездит ‒ и ладно. Но ездили не все. Можно сказать, ездили по очереди ‒ каждый день кто-то из водителей простаивал в гараже из-за ремонта. Транспорта для закрытия всех инкассаторских маршрутов не хватало, поэтому банковское руководство было вынуждено брать в аренду две «Волги» из таксопарка вместе с таксистами. Это означало, что две бригады выезжали на маршруты с посторонними невооруженными людьми, в головах которых роились неизвестно какие мысли. Правда, паспортные данные таксистов были известны, они хранились вместе с собственноручно заполненными ими анкетами в сейфе у начальника отдела. Подстраховка ‒ так себе, но все же лучше, чем ничего.
Не вызывала оптимизма и «недостача» в бригаде третьего ствола. Как нетрудно догадаться, оружие таксисту не выдавалось. В случае нападения ему оставалось либо бежать со всех ног, либо сдаваться. Кстати фактор недовооруженности был использован разбойниками в самом начале 1970-х. После того как инкассатор-сборщик скрылся за дверью торговой точки, один из налетчиков спокойно подошел к машине и дважды выстрелил через стекло в старшего инкассатора, сидевшего на заднем сиденье. На маршруте тот был обязан следить за обстановкой, выдавать сборщику пустые сумки и принимать полные, с выручкой, которые складывались им в стоявший между колен большой прочный мешок. Он-то и был целью бандитов. Мешок вытащил наружу напарник стрелка, проникший в машину через переднюю пассажирскую дверцу. Несколько секунд ‒ и оба растворились во тьме. А что в это время делал таксист? Ничего. После первого выстрела он обхватил голову руками, склонился к рулю и просидел так до возвращения сборщика.
Медикам удалось спасти раненного инкассатора, бандитов через несколько дней поймали. Перепуганного таксиста в банке больше не видели. Тем временем московское начальство, реагируя на разбой, потребовало повысить бдительность на маршрутах и улучшить взаимодействие с милицией, представители которой должны присутствовать в местах проведения инкассаций. О приобретении дополнительных служебных автомобилей для региональных банков никто даже не заикнулся. Таксопарки областных и республиканских центров по-прежнему продолжали исправно поставлять машины кредитным учреждениям для инкассаторских нужд.
Года через три после описанного случая произошел еще один инцидент с участием таксиста. Я тогда только устраивался в отдел. Случилось это в начале лета вечером. Везший инкассаторов водитель решил показать свою удаль на свободной от светофоров дамбе, которая вела к мосту через местную речку, делившую город пополам. Водитель мчался как угорелый, давя на клаксон и совершая рискованные обгоны. Последний маневр, уже перед самым мостом, получившим прозвище «горбатый», оказался роковым. В дежурных сводках о таких случаях обычно пишут: «не справился с управлением». В итоге «Волгу» вынесло через трамвайную линию на встречную полосу, где она ударилась передними колесами о бордюр, подпрыгнула и, не касаясь земли, долетела до реки. Сидевший впереди сборщик получил сильные ушибы грудной клетки и головы. Однако сознания не потерял и позже сумел самостоятельно выбраться через переднее окно. Худощавому парню Рустему, сидевшему сзади, повезло меньше: при ударе о бордюр его бросило головой вперед. Лбом он снес зеркало заднего вида и вышиб уже дышавшее на ладан (после соприкосновения с головой сборщика) ветровое стекло. До воды он не долетел, упав у самой ее кромки несколько левее полузатопленного автомобиля. Сборщик по имени Евгений, отслуживший три года на флоте, вышел на шоссе и, демонстрируя пистолет (сначала пробовал без него, но все проезжали мимо), остановил легковушку. Водитель, вникнув в ситуацию, пообещал вызвать милицию из первого же встретившегося на пути телефона-автомата. Обещание он свое выполнил.
А что же таксист? Тот оказался активным парнем. Умудрившись выпрыгнуть из машины до ее падения в воду и пострадав меньше других, он просто отбежал от места происшествия метров на сто и издали наблюдал за происходящим. Некрасиво поступил. Позже он заявил следователю, что пошел звонить в милицию, но не смог найти телефона. К своей машине он подошел, когда на месте уже работала следственно-оперативная группа.
Деньги выловили все. Хоть в этом повезло. Из мешка вылетели лишь несколько сумок, которые благодаря металлической окантовке не отправились в путешествие по водной глади, а спокойно опустились на дно, где и дождались своих спасителей.
Рустему пришлось несладко: больше десятка швов на голове, три из которых (самые длинные и уродливые по форме) расположились на лбу над самой переносицей, сотрясение головного мозга, пара сломанных ребер, многочисленные ссадины и порезы. Выйдя из больницы, он попросил перевести его из инкассаторов в водители, благо права у него были ‒ получил их в армии на срочной службе. Начальник обещал подумать, и на следующий день вручил Рустему ключи от того самого латанного-перелатанного «москвичонка» красного цвета, который, когда был на ходу, использовался для курьерской работы. На маршруты же выезжал лишь в крайних случаях, когда другой замены сломавшемуся автомобилю не было. Парень был доволен сменой деятельности и с энтузиазмом взялся за ремонт своей малолитражки, проклятой другими водителями и давно уже заслужившей место на свалке.
В один из солнечных воскресных дней, недели через две после того как Рустем приступил к ремонту, я вышел во двор банка после короткого дневного маршрута, чтобы узнать в гараже, не едет ли кто в сторону моего дома. Глупая, конечно, попытка ‒ в выходные дни никто в банке не задерживался: отработал свои часы и испарился. Да и что делать водителю в моем спальном районе, где даже приличных магазинов не было. Родственников, как я успел выяснить, там тоже ни у кого не было. Умом понимая бесполезность идеи, все же решил попытать счастья. Хотелось быстрее попасть домой, чтобы переодеться и отправиться к друзьям на запланированную накануне вечеринку. Мой вклад в мероприятие ‒ бутылка «коленвала» за 3 рубля 62 копейки ‒ находился в матерчатой сумке, которую я держал в руке. Народное название «коленвал» (коленчатый вал) бутылка получила из-за свой этикетки, где буквы, составляющие слово «водка», выполнены в скачущем порядке ‒ одна выше, следующая ниже, и так далее.
Повернув к гаражу, я увидел, что ворота открыты и из них своим ходом выезжает «латанный-перелатанный». За рулем сидел Рустик со счастливой улыбкой на лице. Он поддал газу, заложил вираж, сделал несколько кругов по двору, а затем резко остановился, проверяя надежность тормозов. Махнув мне рукой, открыл пассажирскую дверь. Я сел рядом и осмотрелся: цвет верхней обшивки из светло-бежевого превратился со временем в темно-серый, передняя панель покоцана, словно ее специально ковыряли ножом, вместо радиоприемника ‒ торчащие провода. Сиденья, выглядевшие пожеванными, в некоторых местах лопнули, открывая доступ к своим внутренностям. Замки́ на форточках отломаны. Сзади вместо дивана ‒ ящики с какими-то инструментами и запчастями. Проследив за моим взглядом, Рустем снова улыбнулся.