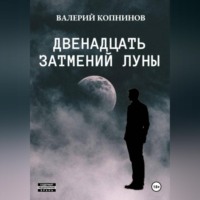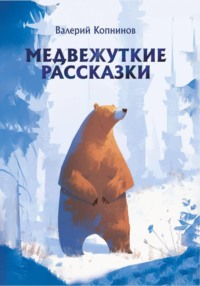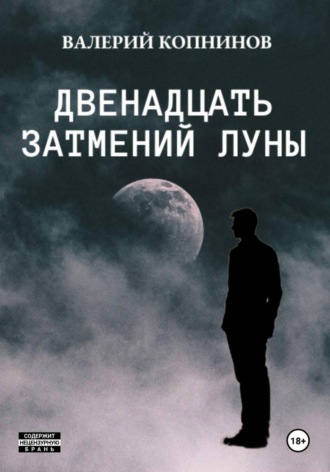
Полная версия
Двенадцать затмений луны
Для людей посвящённых каждая личность мной упомянутая – либо театральный бог, либо ещё полубог, но уже очевидно двигающийся к божественному чину… А ГИТИС – это, соответственно, сонм различных театральных небожителей!
Да что это я разоряюсь: посвящённые, непосвящённые… ГИТИС – его же любой дурак знает!
И вот – я в нём!
Первым делом, «перетерпев» в деканате бумажные формальности, я вне себя от радости побежал на главпочтамт, что на углу Никитского бульвара и проспекта Калинина, отбить телеграмму своей сестре Александре – Саше.
Почему ей? Потому что Саша – это всё: и сестра, и брат, и друг, и даже немножко родители!
У нас с Сашей общая только мама – отцы разные. У неё есть другие братья – от того отца, но Саша как-то открылась мне: «Я считаю, что брат у меня один – ты!» А я и рад!
Будучи на десять лет старше меня, а стало быть – опытней, она относилась к жизни (в том числе моей) намного серьёзнее. К примеру, Саша раз в сто больше, чем я, желала моего поступления именно в ГИТИС, находя во мне, в силу бескорыстной сестринской любви, подлинный режиссёрский талант.
Я, насколько мог, старался её не разочаровывать, да и режиссура была мне по душе, позволяя не только создавать некое сценическое таинство, но и попутно лепить из себя человека. Лепить таким, как я его представлял. И уже в ходе этой самой «лепки» я понял однажды, что ГИТИС – важный элемент на пути достижения гармонии с миром! Вот так – не больше и не меньше!..
На главпочтамте, как ни кружилась голова от обретённой воли самоопределения, в первую очередь требовалось позвонить жене, чтобы застать её на работе. И отчитаться о приезде. Поэтому я поспешил на второй этаж и, наменяв двадцатикопеечных монет, встал в небольшую очередь.
Переговорные кабины наглядно демонстрировали близкую родственность слов «телефон» и «телевизор». Стеклянные двери кабин не скрывали эмоции звонящих и очень смахивали на телеэкраны, где шли крупные планы бесконечного сериала под названием «Жизнь».
– Управление культуры. Здравствуйте, – услышал я в трубке слегка усталый голос жены и добавил в монетоприёмник парочку двадцатиков.
– Ира, привет! Это я… – стараясь ничем не выдать своё хорошее настроение, ровным голосом заговорил я. – Я добрался… Всё в порядке…
– Привет, далёкий муж! – отозвалась Ирина нарочито громко, очевидно демонстрируя дамам из своего отдела, как она доброжелательно беседует с супругом. – Ну, как там столичная жизнь?
– Вот так спросила! – буркнул я вроде как недовольно. – Мне-то какое дело до всей этой столичной жизни? Первая сессия короткая – не до развлечений будет!
– А вообще… как там Москва?
– Москва как Москва! Я её толком и не видел пока – всё время в метро, под землёй! В магазины заглянул – тоже очереди везде, как у нас… сахар по талонам, хотя с продуктами, конечно, получше… За сигаретами очереди…
– А ты курить бросай! – прервала мой отчёт Ирина.
– Да ладно, скажешь тоже, бросай! Сама бросай! И так одно удовольствие в жизни осталось…
– Ну, ты-то себе удовольствия быстро найдешь! – съязвила Ирина.
– Ладно, что мы всё обо мне, – перевёл я стрелки, не желая, чтобы Ирина соскользнула на неприятную тему. – Вы там как? Тебе теперь одной с ребятишками в детский сад мотаться…
– Да, – сорвалась Ирина, – уехал, оставил меня с детьми и почти без денег… Молодец, ничего не скажешь!
– Ну мы же говорили с тобой… Мне Москва, что Ивану-дураку котлы с варёной и студёной водами да с горячим молоком… Или сварюсь, или толк какой из меня выйдет!
– Да ладно, это я так! – вздохнула Ирина на другом конце провода. – Разве же я не понимаю… Иван-дурак новоявленный… Учись, конечно, тянись к свету… Мы потерпим! Я просто соскучилась… И ещё целый месяц тебя не будет…
– Я тоже соскучился! Если звонить какое-то время не буду – не теряй. Тут всё дорого, звоню и монетки только успеваю подкладывать! Но буду стараться… По возможности… Ну, до свидания! Детей там от меня поцелуй!
Отзвонившись, я рванул на первый этаж и сунулся вместе с паспортом к скучающей барышне в окошечко «До востребования». И не зря! Покопавшись в свежей стопке писем, барышня, не экономя на улыбке, выдала мне письмецо в конверте «Авиа» от славной и сладкой моей Вероники!
Отойдя в сторонку, я надорвал конверт, вынул сложенный пополам листок, казалось пропитанный таким знакомым мне, волнующим запахом Вероники, и пробежал глазами торопливые строчки.
«Милый! Я так скучаю за тобой! Ты уехал, и моё сердечко плачет каждую минуту. А я даже не смогла проводить тебя, потому что… ты сам знаешь почему! Потому что тебя провожала жена! Только и делаю в твоё отсутствие, что плачу и смеюсь. Плачу, потому что со мной нет тебя, смеюсь, потому что ты есть! Твоя Вероника».
Такое письмо – читал бы и читал его целый день!..
Я глянул на часы. Всё – времени оставалось в обрез, перечитаю после! Успеваю только отправить телеграмму Саше.
«ПОСТУПИЛ ГИТИС ТЧК ТВОЯ МЕЧТА СБЫЛАСЬ ТЧК» – гласила моя историческая телеграмма.
Чёрт возьми, как же приятно, когда у твоей любимой сестры сбывается мечта и к этому ты самым непосредственным образом приложил руку!
Да я и сам, конечно же, рад, что поступил… ГИТИС – это не только прибежище богов, но и кузница для профессионального роста, сначала открывающего путь в полубоги, а потом…
Впрочем, про богов я повторяюсь, что и неудивительно! Хотя попадание в боги лично для меня никогда не было обязательным – главное, не уподобиться чёрту! А чтобы этого не случилось, должно было заняться собой всерьёз…
Я уезжал в Москву в таком невероятном предвкушении близкого и обязательного обретения чего-то нового и важного, что праздновать это обретение принялся сразу же, едва фигурка жены, машущей мне вслед с перрона Барнаульского железнодорожного вокзала, и сам вокзальный перрон скрылись за поворотом.
Едва смолкли звучные аккорды песни «Хлеб всему голова», сопровождающие отъезд фирменного поезда «Алтай», а я, уже начиная радоваться грядущему, держал в одной руке домашнюю котлетку, а в другой – стакан, наполовину наполненный водкой «Русская», вместо которой оказался спирт. Спирт?! Ну да, спирт, спирт…
Жизнь начинала складываться – я прорвался в Москву!
Для меня даже поступление после школы в барнаульский Институт культуры и то стало особым событием. Тем более поступление на почти экзотическое отделение театральной режиссуры. Не то что бы я был умственно отсталый или не способный к обучению. Да только вот среда, в которой я вырос, для меня, пацана с рабочей окраины небольшого сибирского городка, предполагала совсем иное.
Ничего унизительного, просто жизнь должна была двигаться по накатанной колее, вот и всё. Школа, армия, завод… Именно в такой последовательности. Из поколения в поколение.
И от тюрьмы никто не зарекался, как и от сумы.
Жизнь ежедневными хлопотами погружала в быт, приземляла, но всё в целом шло как-то по-людски, не только хлебом насущным обретались. И песни пели. Хорошие песни… Как с горя, так и с радости. На демонстрации ходили – Первого мая и Седьмого ноября. И там тоже пели. И пили…
Пили, конечно, не только по праздникам. Но и пили как-то… Пили тоже по-людски, без фанатизма, относясь к выпивке, как к чему-то само собой разумеющемуся. Алкоголь входил в жизнь, передаваемый из поколения в поколение.
Мне было лет пять от роду, когда отец начал брать меня с собой по воскресеньям в баню. После бани мы шли к его другу, а потом в пивной павильон – в «стояк» у старого пивзавода. И там, когда отец с другом попивали пивко за высоким, «стоячим» столом, я, находясь под столом по причине малого роста, получал свою порцию пенного напитка в крышечке от эмалированного трёхлитрового бидона. «Сынка, держи!» – приговаривал отец каждый раз, когда осторожно, чтобы не расплескать пиво, передавал мне под стол крышечку. Даже цвет бидона помню – синий! И самое главное – с того пива в крышечке я становился большим и сильным, таким сильным, что мог тащить портфель с банными принадлежностями и вести домой пьяного отца.
А первый стакан водки я выпил в четырнадцать лет, сообразив на троих со своим дружком Игорюхой и соседом дядей Толей в его теплице с уже завядшими огуречными плетями, на которых висели маленькие, побитые ночными заморозками недозревшие огурцы, что сгодились нам для немудрёной закуски.
«Молоток, Серёга! – восторженно воскликнул дядя Толя, наблюдая, как я размеренными глотками, словно воду, поглощаю до краёв наполненный стакан водки. – Мужиком растёшь!»
А вот дядя Толя пил постоянно, и мы иногда с Игорюхой брали водочки или винца и шли к нему в гости. Выпивали, и дядя Толя, мягчея душой, делился с нами секретами ловли снегирей и щеглов, а ещё про аквариумных рыб рассказывал – как правильно живородящих гуппи разводить и меченосцев.
И мой самый первый алкогольный опыт, и все последующие за ним совершенно не означают, что у меня, как и у всех остальных, не было альтернативы. Я с искренней верой и в звёздочку Ильича, и в галстук – частицу красного знамени, и в молодой авангард коммунистов прошёл весь путь от октябрёнка до комсомольца. Мне и многим моим ровесникам было это не только интересно, но и важно!
А комсомол и то, что требовалось от комсомольца, поразительным образом уживались с портвейном и со всем тем, что комсомольцу делать не полагалось.
Видимо, у каждого из нас имелись незримые весы, где на одну чашу складывалось всё хорошее, а на другую плохое, и в конце концов более тяжёлая чаша весов и склоняла человека к выбору жизненного пути.
В общем-то совестливому человеку с этими весами всю жизнь приходится сверяться.
Так жили там, где я родился и вырос. Жили – не тужили. Просто жили. Понятно жили. Это в принципе не так уж плохо, когда жизнь проста и каждому понятна.
Домик нашей семьи, маленький, выкрашенный зелёной краской, с двумя большущими тополями в палисаднике, стоял на улице Гоголя впритык к промзоне, в окраинном районе, почти сплошь состоящем из домов частного сектора. Из главных достопримечательностей: два завода, трамвайное депо, лес и речка. Для всех барнаульцев район был известен под наименованием – Прудские, что повелось от старых названий улиц, выходящих к пруду, устроенному на реке Барнаулке ещё русским промышленником Акинфием Демидовым в середине восемнадцатого века для нужд сереброплавильного завода.
Разумеется, в масштабе страны Прудским было очень далеко до общеизвестных районов столицы. Замоскворечья, например, Марьиной Рощи и, конечно, до родственных (по какому-то особенному магнетизму, а не только в смысле словообразования ) Чистых и Патриарших прудов.
И вот с Прудских, из той теплицы с недозрелыми подмороженными огурцами, где подростком пил тёплую водку с Игорюхой, в настоящее время отбывающим второй срок на строгом режиме, и запойным любителем аквариумных рыбок дядей Толей, ныне покойным, я постепенно дошагал до Москвы, до ГИТИСа. А иначе оставаться бы мне самому на веки вечные недозрелым огурцом…
Москва быстро втянула меня в свой динамичный ритм. Буквально через два-три дня я уже не просто спускался в метро, «катясь» на эскалаторе, а с особенным шиком человека, не привыкшего терять время, быстрым шагом спускался по самодвижущимся ступенькам, вежливо, но с некоторым превосходством произнося стоящим на пути гражданам: «Разрешите!» И стоящие на пути граждане безропотно сторонились, пропуская меня.
Через пару дней я примкнул к многочисленной когорте читающих в метро, и чтение это не было данью некой моде. Во-первых, оно здорово скрадывало время на длинных перегонах. А во-вторых, у меня как раз кстати оказалась с собой книжка карманного формата – детектив «Эффект серебристой пираньи», автора, совершенно неизвестного ни мне, ни широким массам читателей.
Книженцию эту купил я у глухонемых вагонных маркитантов, купил, безотчётно раскрыв на середине и сразу выхватив знакомую фамилию – Голомёдов. Правда, мой знакомый Голомёдов был войсковым майором, а этот ментовским полковником, но инстинкт сработал, и я отсчитал запрошенную сумму.
Конечно, было бы пристойней на людях читать что-нибудь эдакое и как бы невзначай демонстрировать попутчикам метрополитена свой интеллект через обложку изысканного романа. Что-нибудь наподобие очень впечатлившего меня «Коллекционера» Джона Фаулза. Весьма увлекательной и одновременно пугающей истории про одного придурка, не понимающего, что любовь – такая же хрупкая субстанция, как нежные крылья бабочки, и руками её, эту самую любовь, трогать не рекомендуется, но… Читать Фаулза в метро – всё равно что держать кота в благоустроенной квартире на восьмом этаже. И себе жизнь испортить, и коту.
А детектив в метро – самое то. Соответственно, на третий день, занырнув на «Рижской» и удобно устроившись в уголке, я открыл книжицу с броским названием «Эффект серебристой пираньи» и погрузился в чтение.
«Эффект серебристой пираньи» – начало
«Тр-р-р-р! Тр-р-р-р! Тр-р-р-р!..
Ненавижу, когда ночью звонит телефон. Обычно происходит это после того, когда физические возможности бдения над очередным уголовным делом заканчиваются, усталость берёт верх и я безвольно шмякаюсь в сон, тупо летя в некую трубу бессознательного, как мусорный мешок в мусоропровод.
И как только я достигаю долгожданного дна – телефон тут как тут со своей трелью.
Тр-р-р-р!..
Чёрт бы побрал это неуёмное изобретение цивилизации, приписываемое Александру Беллу! Ни днём от него покоя, ни ночью. Особенно ночью… И хоть бы однажды что-то доброе донеслось из этой холодной пластмассовой трубки, а то, почти со стопроцентной гарантией, всякий раз заспанный голос дежурного сообщает о новом убийстве.
Тр-р-р-р!..
– Майор Мур-Муромцев на проволоке, – мрачно буркнул я в трубку, даже не носом, а седьмым чувством угадывая свежий убой и перегарный душок изо рта дежурного старлея.
– Желаю здравия, товарищ майор! Это старший лейтенант Воронков беспокоит! У нас тут парочка трупешников нарисовалась… Машинку за вами я уже выслал! Вы уж извиняйте…
«Да пошёл ты со своими извинениями… в промежность!» – неодобрительно подумал я, но вслух ничего не сказал, только шмякнул трубку на рычаг аппарата, чем вызвал ленивое движение головы и укоризненный взгляд в мою сторону кота Баюна, проснувшегося от устроенного мной шума.
Надо было спешно собираться, хотя мне, старому холостяку, собраться – это всё равно, что голому подпоясаться. Да я и спал-то, почти всегда, не разоблачаясь ко сну (за исключением ночей, что проводил в постели у женщин, подвернувшихся для требуемого природой секса), оттого что чаще всего засыпал непроизвольно, сидя в кресле или лёжа на паласе, под любую чушь, в большом изобилии исторгаемую телевизором. Мне под телевизор легче думается над обстоятельствами следствия и улики тоже сопоставляются удачнее – на фоне телевизора я сам себе кажусь необычайно умным, что, соответственно, стимулирует мозговую деятельность.
«Старый холостяк» – это я упомянул не в виде намёка на особое отличие (да и возраст у меня ещё вполне себе зрелый) или там на другие глупости. Я – не противник семьи как таковой, иногда нахлынет – могу и жену, ждущую меня у окошка, теребящую от волнения «косу русую до пояса», нафантазировать, и детей, что «семеро по лавкам». Но при моей работе… Насмотрелся я на вдов предостаточно, как их от гробов с мужьями, товарищами моими по службе, «чьи жизни безвременно оборвала подлая бандитская пуля», силком отволакивают…
Хотя, если отбросить в сторону мрачные перспективы оставления семьи без кормильца (ну, меня-то они при моей предусмотрительности вообще не касаются), могу сказать, что работу свою «ментовскую» я по большому счёту люблю (причём взаимно – я хороший опер). И город, в котором родился, а теперь вот пригодился, – тоже. Невзирая на давно осточертевшую шутку коллег: «Ну что ты за дыру нашу держишься? С такой фамилией, Ваня, тебе бы в МУРе работать!» А семья, любовь – это пока терпит, знать, ещё не встретилась на моём «суровом пути» та, что стала бы мне важнее, чем поимка всяких разных отмороженных ублюдков.
Пока мне хватало в доме кота. И мой сибирский кот Баюн (хотя мой – это сказано с натяжкой, он, даже просиживая большей частью свой кошачий век в квартире на восьмом этаже, всё равно, что называется, «гулял сам по себе») был для меня не просто домашним животным, похоже, он признавал во мне друга.
«Ты и я – мы с тобой одной крови!» – порой говорил я ему заветные слова и ни разу не слышал от кота ни звука возражения.
При нём я не чувствовал себя одиноко, он не доставал меня бессмысленными разговорами и довольно терпимо относился к моему ненормированному рабочему дню. А я, в свою очередь, держался с ним на равных, ничего не имел против того, чтобы он так же, как и я, спал головой на моей подушке, и самое главное, что, по всей видимости, и сделало меня достойным его особого уважения, – это отсутствие у меня даже мимолётных мыслей (даже в марте месяце) по поводу кастрации моего дружочка Баюна…
Итак: наплечная кобура. Туда – ПМ. Небольшой и надёжный «Вальтер» – в ножную кобуру. На ремень – наручники. Вроде всё!
Ну и понятно – пропитание: сухим пайком в целлофановый пакет легли поспешно перелитая в солдатскую фляжку початая перед сном бутылка коньяка (кстати, всем советую – мировое снотворное) и плитка шоколада, единственное, что сохранилось от праздничного офицерского набора на День милиции.
Лифт, конечно, не работал ночью (в отличие от меня), и я, накинув на голову капюшон моей любимой всепогодной аляски (хотя в кармане имелась вязанная мамой шапочка в комплекте с варежками на случай серьёзных холодов), порысил вниз, прыгая через две ступеньки, чтобы стряхнуть ещё блуждающий по закоулкам организма сон.
Уазик райотдела уже вонял выхлопом у подъезда. Махнув рукой в знак приветствия водителю Миколе Горбуньконенко, зевающему так, что скулы трещали от напряжения, я приоткрыл заднюю дверь уазика и кинул пакет с фляжкой в темноту салона (хотя какой там нахрен салон может быть у нашенского ментовского уазика).
– У-у-х! – раздался из темноты сдавленный выдох.
– Здорово, Ваня! – по-свойски поздоровался со мной Микола, будучи хоть и звания меньшего, но возраста почтенного, предпенсионного, до которого мы все: от опера и до рядового пэпээсника, мечтали дожить без ранений (особенно смертельных) и взысканий по службе.
– Кто у тебя там? – ткнув пальцем в сторону заднего сиденья, спросил я Миколу, ориентируясь по утробному звуку, вызванному моим брошенным пакетом. – Собака?
Микола бросил зевать и заржал, как тот самый «коненко», что влез в его хохляцкую фамилию. Причём ржал он так же неистово, как и зевал, отчего уазик, управляемый нетвёрдой от смеха рукой Миколы, начал выписывать разные безответственные фигуры.
– Аллё, гараж! – заорал я, когда мы чуть было не протаранили бетонный столб. – Ты ржать будешь у телика на программе «Вокруг смеха»! Веди ровно!
– Да эт я так! – Микола попытался говорить серьёзно. – Вспомнил одну собаку! Су… Там у нас… Сзади… Ха-ха-ха!.. Ты знакомься, Ваня: стажёр из Москвы, по обмену опытом… гы-гы… капитан Мария Сучка… Сучка – это фамилия! Гы-гы!.. Прикреплена в твою группу… Гы… хр-рр-р… к-к-ко…
Микола хрюкал и давился словами под моим «ледяным» взглядом, упреждающим его желание вклинить где-нибудь в свой невнятный сбивчивый монолог нечто из набора незатейливых шуточек, типа: «…московская Сучка, да в пару к нашему местному кобельку». Мне достаточно было взглянуть на простодушную рожу Миколы – фраза эта практически светилась у него на лбу.
– Можно просто: Маша! – пискнул тонкий девчоночий голосок с заднего сиденья.
– Начальник убойного отдела майор Мур-Муромцев. Иван Ильич… – отозвался я сухо, не испытывая никакого позитива от возникновения в оперативном пространстве бабы-напарника. – Можно просто: товарищ майор…
В ответ на мой неприветливый тон капитан Сучка обиженно засопела.
Неудобно вывернув шею, я с первого сиденья только и смог, что бегло, в мелькающем свете фонарей разглядеть её тонкий силуэт, жидкие волосёнки, заплетённые в косички, довольно плоскую грудь и, по-моему, прыщи на лице.
«Охренеть! – царапнула по душе досада. – Совсем девчонка! Ну и что мне с ней делать? Сопли вытирать да подгузники менять? Или что там у них, в подростковом возрасте – уже прокладки? Твою дивизию мать! Застрелиться легче! Вот что мне? Что?.. Сю-сю-сю? Да никогда!.. Стоп!.. Какая на хрен девчонка? Она же целый капитан! Капитан-ботан? Ещё хлеще! Но… Блин горелый! Как там Микола говорит в таких случаях: «Не было у бабы заботы, да купила себе порося»?.. Ладно, проиграем в детский сад, а там, глядишь, между делом она в свою Москву и умотает…»
Сам себя не успокоишь – никто не успокоит!
А ещё, попутно, добавил мне чего-то похожего на умиротворение вид ёлочного городка на площади перед Дворцом спорта. И хотя Микола «давил на железку», чтобы побыстрее доставить нас к месту происшествия, я успел не только разглядеть конус тридцатиметровой ёлки, бойко полыхающей в ночь цветными лампочками, снежные горки, болтающийся за стенами из ледяных блоков народ, но и поймать какие-то флюиды праздника, наверное, самого такого… Самого особенного из всех праздников на свете!
««В лесу родилась ёлочка, – вынула мне память из тёмных глубин. – А рядом с нею пень! И пень просил у ёлочки четыре раза в день!» Хрень! И ведь запомнилось намертво! Нет бы, что путное… А ёлочку, кстати, надо бы домой купить!..»
– Ты, Маша… капитан, возьми… те… там, в пакете… шоколадка…
– Спасибо! – отозвалась капитан Сучка и зашуршала целлофаном.
Не то чтобы я какой-то там особо добренький – просто терпеть не могу шоколад.
– Приехали, господа сыщики! – радостно сообщил Микола, тормозя у подъезда элитного дома на проспекте Комсомольском и утыкаясь бампером в намётанный дворниками сугроб, неподалёку от вольготно припаркованной скорой с включёнными проблесковыми маячками…»
От чтения меня отрывает голос: «Станция “Тургеневская”» – время с книгой пролетает незаметно! С «Тургеневской» на «Чистые пруды» чуть не бегом – там у меня пересадка на Сокольническую линию. Тороплюсь, чтобы в завязке детектива ничего не упустить. И так отныне каждый день…
Дни загружены плотно, но если вдруг выпадает днём или вечером свободные пара-тройка часов, я еду гулять на Чистые или Патриаршие пруды, но чаще на Тверской бульвар.
Совсем уж большое окно случилось всего один раз. И тогда я досыта побродил по Тверскому, завершив прогулку переходом в сквер к памятнику Пушкину. А там, постояв напротив великого поэта, после скрытого поклона и мысленного обращения: «Здравствуйте, Александр Сергеевич! Знайте, что мы вас помним и очень любим!», как-то вдруг воодушевился и совершил марш-бросок по улице Горького до самой Красной площади.
«Давненько я здесь не был, давненько…» – однообразно крутилось в голове, пока я неторопливо шествовал от Исторического музея в сторону Спасских ворот.
И действительно, давно не ступал я на эту ухоженную брусчатку. Почему-то совсем не тянуло. А тут – ноги сами принесли.
Всё вроде бы стояло на своих местах – Спасская башня с курантами и звездой на макушке, храм Василия Блаженного, нарядный, как лукошко с пасхальными яйцами, лобное место, подобное фонтану без воды, Минин и Пожарский, ГУМ, Исторический музей, Мавзолей с Лениным в обрамлении голубых елей, часовые при Мавзолее…
Да и какие могли быть перемены здесь, на Красной площади, в самом сердце великой и незыблемой страны?
Вот и Кремлёвский дворец съездов по-прежнему за красной кирпичной стеной. В этой «стекляшке» я с мамой десять лет назад, ещё школьником, смотрел оперу «Запорожец за Дунаем», пытаясь представить себе в удобных креслах дворца, обитых красной материей, делегатов XXV Съезда КПСС. А на сцене (где на тот момент задорно плясали хорошенькие как на подбор украинки, взметая вверх юбки и демонстрируя стройные ножки) воображал сидящего в окружении первых лиц государства самого «дорохо-хо» всем нам товарища – Леонида Ильича Брежнева.
Тогда меня это поражало. Наверное, я чувствовал то же самое, что чувствовала Золушка, явившаяся на королевский бал в карете из тыквы, управляемой крысой-кучером!
В Кремлёвский дворец билеты нам заранее купили знакомые москвичи, у которых мы с мамой гостили три дня, будучи в Москве проездом. Почему туда, а не во МХАТ, например? Они объяснили, что Кремлёвский дворец – это излюбленное место жителей столицы, потому что буфет Кремлёвского дворца (даже при неплохом относительно остальной страны выборе продуктов в московских магазинах) поражал своими изысками даже искушённых москвичей. Там в любое время года подавались бутерброды с чёрной и красной икрой, с малосолёной сёмгой и осетриной горячего копчения, а также (если повезёт) можно было полакомиться трюфелями – грибами из самой Франции.
Оттого минимум два раза в год коренное население столицы стремилось попасть в Кремлёвский дворец съездов, чтобы утолить свои гастрономические мечты в буфете. А что происходило на сцене – решающего значения не имело.