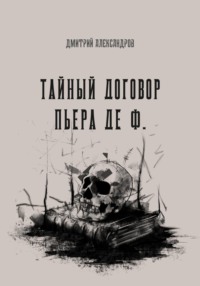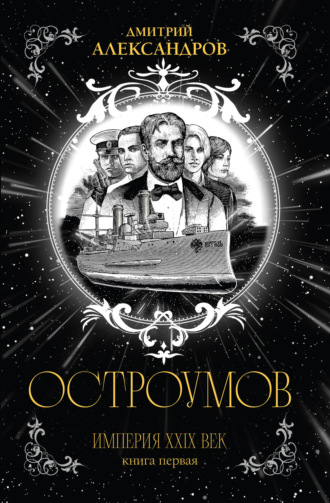
Полная версия
Остроумов
На минуту в комнате воцарилась тишина. Все трое чувствовали, что так надо, правильно. Наконец капитан вздохнул.
– Царствие ему небесное. Я государю направил вместе с рапортом предложение планету из Райского Сада переименовать в Андреевские Топи. А дальше была Сиренея…
– Наслышан уже, наслышан! – постарался бодрым тоном вывести беседу из туч тяжких воспоминаний обратно, в ясную синеву радостной встречи, Остроумов.
– Во всем чудеснейшее место! Скажи, Дмитрий Алексеевич?
– Точно так. Чуть полегче Земли. Дышится свободно без всяких костюмов.
– И повсюду луга сиреневые, как в сказке! У меня, кстати, подарок есть. Не думал же ты, что я без сувениров к тебе?
Ермаков взял со столика оставленную там ранее небольшую шкатулку, сделанную из темного дерева. Все встали. Капитан распахнул крышку. Внутри, в бархатных углублениях, покоились три маленьких сосуда. Он протянул шкатулку купцу.
– Подземные ключи Сиренеи! Воды, текущие там из стен пещер. Замечательное местечко! Пока я не рассказывал о нем, только в рапорте… Нет, погоди, сейчас не открывай! После оцени. Добро?
Остроумов удивленно поднял бровь, прикидывая, куда клонит его друг.
– Добро! Спасибо тебе, Ваня!.. Что же, дамы нас, поди, заждались, пора к ним спуститься!
Купец щелкнул кнопкой на часах, подзывая домового.
– Яшка! Скажи, что мы идем!
За одетыми в богатый переплет окнами усадьбы по светло-синему московскому небу так же, как и тысячу лет назад, плыли ярко-белые облака.
3. Свет окон его
По правую руку от Тверской улицы в Москве располагается один известный переулок. Знаменит он в первую очередь трактиром на углу, притягивающим к себе всяческие происшествия и попадающим то в местные газеты, а то и на страницы межсетевые. Навещают его люди довольно известные, большей частью из музыкальных кругов, поэтических и так далее – то есть люди искусства.
Подальше от того трактира (имевшего, как и ныне, вывеску «Пиковский») находился в те годы трехэтажный доходный дом, архитектурой своей не примечательный, но вида богатого, с большим количеством прислуги. Принадлежал он вдове князя Липгарта, Антонине Павловне Липгарт. Уже несколько месяцев в этом доме занимал бельэтаж (а сказать правду – весь дом, ибо не пускали туда других постояльцев) молодой поэт и актер кинематографа космической популярности Евгений Радин.
Сын извозчика и мещанки, Радин успел за свое детство стать свидетелем достаточного количества больших и малых семейных трагедий. Отец пил, влезал в долги, волочился за женщинами, скандал следовал за скандалом. Семья жила бедно, постоянно переезжала с места на место в поисках нового пристанища, которое вскоре опять не могла оплачивать. Родителям приходилось упрашивать теток, дядек и бабок вступиться, и здесь ребенок, сам того не ведая, становился единственной причиной, по которой оказывалась помощь. А когда Радину исполнилось шесть лет, отец бросил семью и сбежал на Марс.
Мать Евгения была дальним потомком европейских норфинов, женщиной себялюбивой, с резким характером и тяжелой рукой. Слишком многое в сыне напоминало ей его отца, и по этой одной причине Евгений никогда не получал от матери той любви, которая является главной жизненной энергией любого ребенка и которая во многом определяет его характер.
Неизвестно, как бы сложилась судьба Евгения, если бы сердобольные родственники не отдали его в Московское театральное училище. Здесь семена талантов, получив нужную почву, на глазах у всех произвели на свет цветок невероятной харизмы и обаяния. Цветок этот, однако, напитывали изнутри два главных желания, сложившихся из детства: желание богато жить и желание быть любимым. Кино дало Евгению Радину и первое, и второе.
В ночь перед приездом Ермакова через дорогу от дома вдовы, занимаемого Евгением, можно было заметить одинокую фигуру – молодую девушку, стоящую под сухой липой. На девушке было прямое черное платье с открытым вырезом каре на груди, по всей длине украшенное кружевными лентами. Через подол его проходил косой разрез, зашитый золотой нитью. Такой наряд был популярен у молодежи, именовавшей себя мрачниками. Волосы с переливом из медного в бордовый, сложная укладка с начесом и завитыми локонами, стянутыми сзади, украшения из марсианских рубинов, дорогая машинка последней модели в руках – все выдавало в ней девушку из состоятельной семьи. Взор ее был прикован к комнатам липгартовского дома, сияющим в ночи ярким электрическим светом.
С самого обеда сидели у Радина лицейский друг, рыжеволосый московский повеса Константин Залатаев, и три молодые девицы. Играли в карты, ели, выпивали, слушали, качая головами, рассказы Евгения о тяжкой актерской доле. Дождавшись, когда стихнет очередной приступ хохота над очередной вульгарной шуткой, высокая блондинка поймала руку Евгения.
– Женэ, Женэ! Теперь я тебе погадаю!
Женэ – так сегодня звали Радина. Одной из прихотей Евгения было давать себе новое имя на вечер. Женэ – псевдоним известного комика и актера, погибшего в год начала войны, всеми любимого толстяка в соломенной шляпе.
Радин отдернул руку, попытался застегнуть манжету, но тут же бросил это занятие.
– Люси, это скучно!
– Но ты же обещал!
– Евгеша обещал, а сегодня я не он. – Радин хлопнул в ладоши. – Это скучно! Разве ты не умеешь чувствовать, что для мужчины скучно, а что нет? – Он повернулся к двум девушкам, сидящим в обнимку на диване. – А вы умеете ли чувствовать?
Радин схватил за руку миниатюрную шатенку с большими, блестящими, уже не трезвыми глазами и заставил ее подняться.
– Ну, Дарья, отвечай: умеешь?
Из коридора донесся грохот, послышались ругательства. Дверь распахнулась, в комнату ввалился (точнее, вполз на четвереньках) Залатаев.
– Твои автоматы разбили выпивку. Давай их с крыши скинем.
– Нет, – коротко ответил Евгений и посмотрел на приятеля взглядом, каким взрослый смотрит на провинившегося ребенка. – Встань уже… И вот что… Будем танцевать! Движение – вот что не скучно для мужчины!
Ко второму часу ночи пришла кому-то в голову идея играть в переодевания. Были бесцеремонно разорены платяные шкафы с актерскими костюмами, которые держал у себя Радин, и еще долго мелькали в окнах тела – то разодетые пиратами или разбойниками, то полуголые. Седой эконом, безуспешно пытавшийся задремать в качающемся кресле в угловой комнате первого этажа, морщился от криков и никак не мог понять наказ хозяйки «во всем Евгеше способствовать, чтобы не знал он ограничений, кроме закона».
Невозможно красивый собой, высокий, широкоплечий, с несколько полными губами, широким подбородком и правильным прямым носом, блондин с пронзительным взглядом серо-голубых глаз, которые он никогда не отводил первым, – таким Радина знали на тридцати двух планетах и нескольких десятках космических станций. Любой фильм с его участием неизменно собирал полные залы. Слава эта выросла прежде всего из ролей совершенно отрицательных. Ролей, как скажет человек, знакомый с кухней этого искусства, приговорных: легко могут они продлить тень сыгранного образа на всю карьеру, положим, понимаемы критиками и бог знает как влияют на отношение к актеру простой публики. Однако игра Радина раз за разом придавала этим образам неожиданных красок, выворачивала все так, что зритель начинал сопереживать, видеть даже в убийце человека и, к собственному удивлению, жалеть его. Сейчас, купаясь в славе самых разных видов, имея возможность развлекаться так, как желает его душа, Радин стал вдруг обнаруживать нечто тревожное, грозящее пошатнуть сами основы его сложившейся яркой жизни: эта жизнь начала ему надоедать.
Так и сегодня. Вдруг без причины Евгений разозлился. Только что он вместе с Костей Залатаевым, изображая тигра, гонялся за девушками, перебегал из комнаты в комнату, отталкивая с пути стулья, спотыкаясь, натыкаясь на углы… И вдруг встал прямо, подняв глаза к потолку, посреди большой гостиной и бросил в двери полосатую накидку.
– Мерзость.
Друзья непонимающими глазами уставились на него, стоящего в льняных брюках и распахнутой сорочке посреди комнаты. Радин обвел гостей хмурым взглядом и громким, чуть дрожащим и совершенно трезвым голосом произнес:
– Все это мрак, пурга и дым. Во мне их вовсе не осталось. Другого жду, хочу другим груди своей наполнить ярость. И ненавидеть я хочу то, что люблю душою всею, и… Убирайтесь! Пошли все вон! К черту, к черту!
Радин смахнул со стола карты, и они, будто сухие осенние листья, поднятые порывом ветра, закрутились в наполненном ароматами дорогого шампанского и ликера, застоявшемся, тяжелом воздухе и рассыпались по темному паркету. Залатаев, тоже бросив на пол свою накидку, подошел к Радину, явно намереваясь что-то возразить, но Евгений схватил его за ворот и поволок к дверям.
По переулку проехал извозчик. Свет фар скользнул по деревьям и выхватил из темноты шатающиеся фигуры, в сопровождении двух автоматов спускающиеся по ступеням. Мобиль, скрипнув шинами, развернулся, и фары оказались направлены точно на девушку, стоящую по-прежнему возле старой липы. Произошло это совершенно случайно, но было тотчас замечено всей компанией.
– Гляди, это Остроумова!
Девушка, которую Радин называл Дарьей, путаясь в складках платья и отталкивая руки подруг, обошла мобиль.
– Ты чего здесь забыла? Думаешь, нужна ему?
Ольга – а девушкой в черном платье действительно была младшая купеческая дочь – молчала, но не отворачивала головы и смотрела на существ (так она сейчас назвала их про себя), ей противных, чуждых, противоположных по духу и ничего не понимающих, паразитов, пользующихся слабостью Евгения. Мысли эти придавали ей сил, и нахмуренные брови над горящими ненавистью глазами демонстрировали эти силы столь очевидно, что вторая девица, качаясь и с трудом выговаривая слова, обняла подругу за шею и потянула в сторону улицы.
– Да п-пойдем уже, далась тебе эта моль!
Радин провожать не вышел. Через окна второго этажа слышно было, как укатил извозчик. В доме стало тихо и одиноко. Евгений докричался до автоматов и приказал открыть все окна. От гостей остался только воздух, пропитанный еще недавним весельем, и неясно было, когда он посвежеет настолько, чтобы не вызывать в груди какой-то непонятный комок животной ярости, ненависти ко всему сегодняшнему вечеру. Вокруг царил беспорядок, и надо было срочно приказать все убрать, но при этом не хотелось видеть и слышать эту уборку.
Радина охватило странное чувство страха и тоски. Он достал бутылку коньяка, отпил прямо из горла, сел посреди комнаты, поднял одну из карт. Из-под пятилучевых корон на него смотрели два бородатых короля, один – прямо, другой – вверх ногами, выглядывая из-под первого. Подле каждого сияло алое сердце. Так он просидел, должно быть, минут пять, затем бросил карту и лег.
Ему послышались легкие, осторожные шаги. Кто-то стоял в дверях, стоял и смотрел на него, и он чувствовал этот взгляд.
– Жан…
Так, по имени одной из прошлых ролей, называла его только Ольга. Он отчего-то сразу это принял, хотя обычно сам навязывал другим обращение к себе… Нет, было еще одно исключение – вдова с этим «Евгеша». Но это другое, это надо было терпеть.
Радин поморщился.
– Зачем ты пришла? Сегодня другой день.
– Не наш день, знаю. Я хотела просто посмотреть в твои окна.
– Какая глупость! И что ты увидела?
– Одиночество.
Радин повернулся и с удивлением посмотрел на девушку снизу вверх. Неожиданный и до невозможности острый, ловкий ответ как-то отрезвил его.
– Все равно это глупость. Хотя ты и права.
Ольга улыбнулась. Она села рядом, и минуту двое молчали, глядя в темное окно.
– Да, глупость, – наконец произнесла девушка, придвинулась к нему и положила руку ему на плечо. – Расскажи мне в стихах, какая это глупость. Сможешь?
Радин рассмеялся звонким долгим смехом. Затем попытался встать, но все вокруг него вдруг начало вертеться и качаться, паркет стал палубой корабля, брошенного в самый ужасный шторм. Он сделал шаг и упал бы головой точно на лежащего рядом бронзового амура, если бы девушка не подхватила его. Он сказал что-то еще, должно быть грубое или неприличное, и, кажется, бросил пепельницей в автомат, пришедший на вызов Ольги. На этом моменте занавес долгого дня опустился окончательно, и следующие одиннадцать часов Евгений Радин проспал, не помня и не чувствуя ничего.
4. Горенье чувств
Солнце катилось к закату, а вернее сказать, планета прятала от него в прохладу тени уставшую ото дня дольку. В парках распевались соловьи, по набережным тянулся легкий туман, в столице зажигали свет – начинался вечер.
Ольга возвращалась домой. Свернувшись на мягком диване электрического мобиля у двери, в углу, она смотрела на вечернюю Москву с тоской в сердце. Ей хотелось приказать отправиться к Лунному мосту, забраться на перила и сидеть там, держась за фонарь. Еще лучше, чтобы Жан-Евгений случайно увидел ее там, проезжая мимо – нет, лучше проплывая внизу по реке, – и чтобы ее силуэт отпечатался в его памяти навсегда. Извозчик по указанию Ольги ехал не через Моховую и Остоженку, а большим крюком, через Сергиевский мост. Встречные огни изредка вспыхивали за стеклами, заставляя блестеть полированное дерево и украшения. Звуки снаружи почти не проникали в салон, двигатель работал тихо. От этого все казалось ненастоящим, слишком комфортным. Мир стал картинкой, и девушка, желая приблизить к себе реальность, наклонила маленький рычажок, опускающий стекло… Прохладный воздух, предзакатное небо и шум города, бессмысленный и вечный. Ольга заслушалась его, представляя, что это шум моря и она брошена в него и плывет теперь в ночи, обреченно ожидая, когда разрешится ее судьба. Как выглядело бы ее платье? Хорошо ли? Подходящее ли это платье, чтобы плыть по воде? Одежда порой становится мерзкой, когда напитывается водой, но изредка, наоборот, изящной. Ольга стала искать на машинке фотографии, подтверждающие то и другое…
Прибыли. Перстень прикоснулся к поданному для оплаты блюдцу, каемка вспыхнула золотом, и одновременно зазвенел колокольчик в машинке Ольги. Извозчик бросился открывать двери.
Ей нужно было теперь как можно незаметнее добраться до своей спальни. Ольга чувствовала себя виноватой за ночь и день, виноватой в первую очередь перед матерью. По дороге домой она написала на машинке длинную телеграмму, в которой просила прощения за причиненные волнения. Телеграмма была доставлена и прочитана – таким образом Ольга считала возможным не объясняться с родителями о прошлой ночи. Мать имела обыкновение отвечать дочери сразу (по крайней мере, по возможности скорее), и прочитанное, но вдруг оставленное без ответа послание говорило, казалось, о чем-то. Ольга не хотела думать об этом, а лишь о том, чтобы избежать всяких объяснений сегодня.
Ворота ей открыл садовник Тихон, автомат из старых, служивший при усадьбе с самой постройки.
– Я с боковой поднимусь, не беспокой никого, – произнесла девушка, не поворачивая головы и не глядя на садовника.
Однако автомат преградил ей путь.
– Не велено.
– Что не велено? Я тебе говорю, хозяйка твоя! Поди, открой мне.
– Велено вас встретить и проводить в парадную.
– Да кем же велено?
Автомат промолчал. Ольга холодно, чуть сузив глаза и поджав губы, взглянула на него, но более не стала упрямиться.
Оклик матери застал ее на середине пустой залы, в самом центре большого цветка из наборного паркета, который повторял в ломаных линиях живописное украшение потолка. Анна Константиновна подошла к дочери, показав жестом стоящему в боковых дверях автомату удалиться.
– Ты думаешь, я буду ругать тебя. Я должна бы ругать, ведь есть за что. Но сейчас скажи мне только одно: все ли с тобой хорошо, не обидел ли кто тебя?
– Нет, все хорошо, – не поднимая глаз, ответила тихим голосом Ольга.
– Опять была у него?
Девушка молча кивнула. Анна Константиновна вздохнула. В ней шло сейчас противостояние множества чувств, и с большим трудом удалось ей ни одному из них не поддаться и оставить трудный разговор до следующего дня.
– Я вижу, ты не спала совсем. Ступай к себе, я прикажу чего-нибудь…
– Не надо.
Девушка направилась к лестнице, мечтая сейчас только об одном: чтобы не столкнуться более ни с кем из домашних.
Войдя в спальню и задвинув тяжелые парчовые шторы ненавистного ей персикового цвета, она села на угол кровати, открыла на машинке дневник и принялась быстро водить пальцем по буквам на экране: «Упасть сейчас на кровать, чтобы проснуться в какой-нибудь другой реальности, в мире мрачном, населенном холодными существами, нас во всем превосходящими, во дворце их на высокой скале…»
В спальню все же принесли поднос с молоком и ревеневым пирогом – непрошеный, но желанный. Дом полнился обычным вечерним движением, но более никто Ольгу не беспокоил.
Она дождалась одиннадцати, когда все стихло, и босиком, чтобы не создать шума и чтобы «телом почувствовать хладную сущность Вселенной», вышла из комнаты и поднялась по узкой лестнице в башенку правого крыла. Здесь было заброшенное место, которое приказали заколотить, но она тайно открыла его и сделала «убежищем» – непременным для всякого мрачника элементом жизни.
Сидя в углу, на дощатом полу, она писала скрытому за именем Варвара собеседнику (являвшемуся, впрочем, молодой питерской лицеисткой). Диалог их, возможный в любое время без всяких слов благодаря междусети, связывающей миллионы машинок на десятках планет и космических станций, будет одному читателю скучен, но другому любопытен, потому я приведу его здесь целиком. Мрачники избегали восклицательных знаков, следили за написанным, чтобы диалог был «поэтическим», никогда не обращались друг к другу по имени, старались общаться после захода солнца, поскольку свет его якобы вредит чувственному душевному процессу.
Ольга: Они думают, я неискренна. Что увлечение мое от моды частью, частью от лет. Не объяснить никак. Разнятся так понятья – понятья чувств у наших поколений.
Варвара: Они понять не смогут, так что все пустое. Прошла я через это. Многие прошли.
Ольга: Скажи, ты тоже думаешь, что изменяется она, любовь?
Варвара: Любовь?
Ольга: То, что зовется этим чувством. Читаем мы о нем в известных книгах, еще в учении, затем и сами. На их примере объясняют молодым. Но ведь тот век ушел, у нас уже другое. Родительское поколенье живет еще всем этим расширеньем – устройство нового, планеты, суета… Не успевают люди осознать, как мы малы теперь. Мир стал ужасно больше, а жизнь все так же коротка. Идет вокруг все словно бы само, под действием каких-то бо́льших сил, никак не изменить его теченье. Для разума, должно быть, чу́дная картина. Но для сердец для одиноких наших ни в чем нет смысла, кроме чувства, и чувство же оправдывает все… Прости, я, верно, говорю один сумбур…
Варвара: Нет, что ты. Слова твои как будто с губ моих сорвались.
Ольга: Что делала бы я без вас? Я не разобрала бы даже, что это есть за чувство… Знаешь, ради стихов его готова я на все. Ведь смерть придет к нам рано или поздно. И победить ее один лишь только способ – стать музой для стихов или картин, которые все так же вечны. Жить в них, стать их героем.
Варвара: От этих слов сильнее бьется сердце. Все тлен. Возьми, творец, мой образ.
Ольга: И мой.
Варвара: Для этого вся наша красота.
Ольга: И хрупкость, и страданье.
Варвара: Жаль, не рисую я и не пишу стихов.
Ольга: Мы по другую сторону, но и без нас искусство невозможно. Без обреченного горенья чувств.
Варвара: Как сказано. Я с этим проведу теперь всю ночь.
Ольга: И я.
5. На Марс
Двое суток, следующих за упомянутыми событиями, провел Остроумов в делах купеческих, и подарок Ермакова был на время оставлен нетронутым в шкафу за стеклом, по соседству с вырезанным из бивня доисторического гиганта мальчиком с дудочкой, дальнекузнецкими колокольчиками (предметом дорогим и у купцов обязательным в силу поверья, что звон альдебарита дарует удачу в сделках), а также прочими чудесными мелочами.
Спешка для купца – самое вредное, так считал Остроумов. Спешка может любое дело направить по дороге, в конце которой выяснится, что все следует переделывать и чтобы только вернуться к прежнему состоянию, требуются силы, деньги и время. В этом он отличался от молодых купцов своей гильдии и уж тем более от носителей гильдейских печатей новых планет: те любили и риск, и скорость.
Любовь эта проистекала из всяческих исследований, графиков и прочей информации в междусети, до которой жаден сейчас любой человек, открывающий свое дело, и подогревали ее истории быстрого успеха, повсюду воспеваемые. Остроумов, однако, видел это так: бывает успех из риска, но на один такой случай приходится тысяча разорений. Успех этот случаен и не происходит из выгодности риска, а сравним с игорной рулеткой. Но высоко взлетевший вдруг делец верит, что открыл тайные рецепты, и пишет о них книги. Книги эти читаются другими, молодыми и страждущими скорой прибыли, и снова и снова бегут они, теряя шапки, нырять во всякие авантюры, коих век космический дарит великое множество.
Причины осторожности купца лежали в его семейности и истории. Владимир Остроумов получил капитал в наследство от своего отца. Вместе с капиталом, складами, торговыми местами и заводом по производству масел и бальзамов разного рода перешла к нему грамота с золотой цифрой, украшенной дубовыми листьями, – место в первой купеческой гильдии.
Родители Владимира, Ростислав и Екатерина Остроумовы, погибли во время ракетной атаки на земные города, случившейся в самом начале Русско-марсейской войны, 29 декабря 2870 года. Владимиру в то время было уже тридцать два. Он принимал деятельное участие в предприятии отца, учился, много читал, много путешествовал, заменяя не отличавшегося крепким здоровьем Остроумова-старшего на сделках, требовавших космических перелетов. В день атаки Владимир оказался далеко от Земли. Не сразу он узнал о трагедии, а смог добраться до разрушенного дома лишь спустя два месяца, когда была снята осада планеты и угроза ракетных ударов миновала.
Не в характере Остроумова-младшего было впадать в отчаяние, винить во всем себя одного и позволять этому (из любви сотканному) чувству вины ослабить волю. Дело его семьи должно было жить, и поскольку теперь оно несло для Владимира особое значение, с самого первого дня новый глава торговой фамилии был прежде всего настроен сберечь, не растерять и уж после думать о приумножении.
Отец Остроумова мечтал однажды заняться духами – вершиной мира косметических средств (как сам он говорил про это свое желание). Но если с торговлей – то есть с правильным выбором чужого товара, правильной рекламой и так далее – все шло успешно, то собственное производство оставалось делом, к которому не так просто подступиться. Надо было понимать, чувствовать, погрузиться в большой и особенный мир, в его историю. Надо было тратить, и тратить много, чтобы показаться на самом верху с чем-то, за что люди будут готовы так же много заплатить.
Владимир Остроумов, обладавший большим талантом понимать запахи и видевший удовольствие в их создании, истово желал исполнить мечту отца. Но он шел вперед нерешительно, с какой-то постоянной оглядкой на возможную неудачу. На счетах Остроумова еще со смерти родителей лежали большие деньги, он их не трогал. И если раньше высокий процент хотя бы отчасти оправдывал такое положение, то сейчас капитал этот больше напоминал мертвый груз, клад, непонятно для чего зарытый «на черный день», и Остроумов как купец корил себя за это, но как муж и отец оправдывал, и деньги оставались нетронутыми и тогда, когда в руках оказывался шанс предприятию и фамилии вырасти и встать в один ряд с известными и большими домами, попасть в высший свет столицы.
* * *Пятнадцатого числа, когда дело шло к ужину и уже накрывали автоматы большой стол, Остроумов, сжимая черный кожаный футляр с машинкой, быстрым шагом вышел из кабинета. Анна Константиновна, увидевшая его с балкона и понявшая по одной походке мужа, что стряслось что-то неладное, поспешила к нему вниз.
– Анна, любовь моя… Не знаю, как и сказать тебе. Лечу сейчас же на Марс.
– Что там стряслось, Володя? – спросила она, вздохнув, однако, свободнее, так как речь шла о Марсе и, значит, не касалась происшествия, чем бы оно ни было, ее детей и вообще Земли, то есть была по отношению к дому внешним.
Приказчик марсианской фактории Елеев писал Остроумову, что случился пожар. Старик не сдерживал эмоций, но даже без этого дела были тревожные. Купец, однако, быстро взял себя в руки и постарался эту тревогу и суть дела от супруги утаить.
– Да какая-то неразбериха возникла, сам не пойму, – махнул он рукой. – А без меня невозможно решить проблему. Вот и полечу.