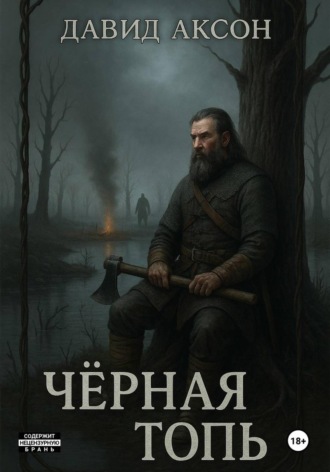
Полная версия
Чёрная топь
– Нет, – она покачала головой. – Твой князь умнее, чем ты думаешь. Ему нужна не секира, чтобы рубить, а святыня, чтобы пред ней падать ниц. Люди забудут его сталь. Будут землю целовать, где он ступал. Такая власть крепче всякого железа.
Всё сходилось. Жестокий, простой и до омерзения ясный расчёт. В духе князя.
– А ты? – Ратибор наклонился вперёд, опираясь на руки, чтобы не упасть. – А тебе что с этой затеи? Зачем тебе этот запор? Хочешь получить ключ?
Она снова подняла на него глаза. И на этот раз он увидел в них не силу, а бесконечную, выжженную дотла усталость. И отчаяние.
– Добрый замок лучше не ломать, воевода, – тихо сказала она. – Особенно если не знаешь, кто сидит внутри. А я… я иду забрать то, что у меня украли.
Ратибор откинулся назад. Он не поверил ей. Ни единому слову. Но он понял главное. Она не на стороне Светозара. У неё своя цель. Доверия между ними не возникло.
Он молча кивнул и отполз на своё место. Улёгся на мокрую подстилку, повернувшись к ней спиной. Боль в ноге никуда не делась. Холод пробирал до костей. Но впервые за эти проклятые дни это казалось не самой главной бедой. Главной бедой было понять, как выжить, когда твой единственный попутчик страшен не меньше твоего лютого врага, а правила ведомы лишь ему одному.
Глава 4
Ратибора выдернула из сна не изморось, а боль. Лодыжка дёргалась, пульсировала тугими, горячими толчками, будто в кости застрял и остывал кусок железа. В кишках ворочалась тяжесть от съеденного наспех мяса, но голод уже вернулся, злой и требовательный. Ратибор лежал с закрытыми глазами, пытаясь передышать эту волну. Кожа на лодыжке натянулась до звона, лоснилась от выступившей сукровицы даже в сером предрассветном свете. Он почувствовал, как холодная испарина стекает по затылку, и сжал зубы, пытаясь унять дрожь в руках.
Лагерь утопал в сером предрассветном свете. Кострище – кучка мокрого пепла, прибитая ночной изморосью. Пустые мешки из-под припасов валялись скомканными тряпками. Напротив, на корточках, спиной к скале сидела Зоряна. Её тело было напряжено, она не опиралась на камень, а лишь касалась его лопатками, готовая в любой миг вскочить. Глаза были открыты, но смотрели не на лагерь, а в точку, где предрассветная мгла была гуще всего. Морщинистые пальцы мерно перетирали в пыль какой-то сухой корень. Она была похожа на древнего идола, вырезанного из дерева и времени, непроницаемая, вечная в своём молчании. Она не замечала ни голода, ни холода, или, по крайней мере, не подавала вида. Она была сродни этому лесу, его гнили, его упорству.
В нескольких шагах от неё, сжавшись в комок, сидел Лют. Он обхватил колени руками и мелко дрожал, хотя ветра почти не было. Его взгляд был пуст. После той ночи он почти перестал говорить, превратившись в тень, которая дёргалась от каждого шороха. Он больше не ныл, не жаловался, и это пугало Ратибора куда сильнее. Нытьё было признаком жизни, борьбы. Молчание было знаком того, что внутри что-то окончательно сломалось. Надломленный клинок бесполезен. Хуже – он опасен.
«Каменная баба и сопливый щенок. А я, сука, между ними. Калека», – проскрежетала мысль в голове Ратибора. Силы покидали его с каждым ударом пульса в больной ноге. Ещё день такого сидения, и он не сможет не то что драться – он не сможет встать. Топор покажется неподъёмным куском железа. Бездействие убьёт их вернее любого княжеского дозора.
Он сел, опираясь на локти. Движение отозвалось новой вспышкой боли, от которой перед глазами поплыли тёмные пятна. Стиснув зубы, он дождался, пока мир снова обретёт чёткость.
Нужно было что-то делать. Идти дальше в таком состоянии – самоубийство. Нога не выдержит и полуверсты. Оставаться здесь – медленная смерть от голода. Значит, остаётся только одно. Охота. Здесь, на месте. Шум привлечёт дозорных. Любая вылазка может стать последней. Но если сидеть и ждать, смерть будет не только верной, но и унизительной. А этого он допустить не мог. «Замысел простой, как мычание коровы, – думал он, глядя на свои одеревеневшие пальцы. – Силки. Тихо, без шума. Если повезёт, попадётся какая-нибудь мелочь. Птица, заяц. Хоть что-то, чтобы залить в кишки горячую похлёбку. Чтобы кости перестали ныть. А если не повезёт…» Он не закончил мысль. Если не повезёт, то всё это просто закончится быстрее. Выбор был не между жизнью и смертью, а между быстрой смертью в деле и медленным гниением в этом овраге. И такой конец казался ему почти милостью.
Он с натугой поднялся, опираясь на топорище, как на посох. Каждый вершок движения отдавался в ноге раскалённым железом. Он подошёл к Зоряне. Она подняла на него глаза, и в их глубине не было ни сочувствия, ни удивления. Только ожидание.
– Ты, – хрипло сказал Ратибор, кивнув на её мешочки, – ищи свои поганки. Травы, коренья. Чтоб было чем брюхо набить, если я вернусь с пустыми руками.
Потом он повернулся к Люту. Тот дёрнулся от его взгляда, съёжился, будто от удара. Презрение боролось в Ратиборе с брезгливостью.
– Ты, – он ткнул в сторону вора подбородком, – пойдёшь со мной.
Лют замотал головой так резко, что чуть не свернул шею. Глаза его расширились, он заморгал, как будто пытаясь проснуться.
– Я… я не…
– Я не спрашивал, – отрезал Ратибор. Голос его был тих, но твёрд, как замёрзшая грязь. – Будешь сидеть тихо и делать, что скажу. Будешь шуметь – придушу. Понял?
Он не ждал ответа. Это было не приказание вожака. Просто ошейник на шее бесполезной дворняги. Узда страха – единственный язык, который понимал этот мир. И единственный, на котором Ратибор ещё не разучился говорить.
Они отошли от стоянки на полверсты, вглубь леса, где подлесок становился гуще, а следы звериных троп – отчётливее. Ратибор двигался медленно, волоча больную ногу, каждый шаг – выверенное, мучительное усилие. Топор стал продолжением его руки, третьей точкой опоры. Он не смотрел по сторонам, он вслушивался, внюхивался, читал лес, как грамоту, писанную знаками, понятными лишь зверю да ловчему.
Он выбрал место у поваленного бурей дуба, где узкая тропка вилась между зарослями орешника. Здесь. Он опустился на одно колено, поморщившись от боли, и положил топор на землю. Его руки, хоть и подрагивали от слабости, двигались уверенно и точно. Годы пьянства и отчаяния не смогли стереть из его пальцев старую память ремесла.
Он достал из-за пояса отцовский нож – единственную вещь, связывавшую его с прошлым, которое ещё не было измазано кровью и позором. Лезвие было сточенным, рукоять треснувшей, но сталь оставалась острой. Он срезал несколько гибких веток орешника, очистил их от листьев. Пальцы работали привычно, разум отдыхал. Здесь не было места сомнениям, страхам или воспоминаниям. Было только простое, понятное дело: согнуть ветку, натянуть петлю из узкой полоски кожи, срезанной с голенища сапога, вырезать сторожок. Чистое и простое ремесло смерти.
«Отец всегда говорил: зверя не силой берут, а хитростью», – всплыло в памяти непрошено. Он помнил большие, мозолистые отцовские руки, которые так же легко и уверенно мастерили силки в лесу за их деревней. Тогда это казалось игрой. Воздух пах прелой листвой и грибами, а не страхом. Отец учил его читать следы, понимать ветер, думать, как думает лиса или кабан. Он не учил его убивать людей. Этому Ратибор научился сам, и преуспел куда больше. Он отогнал воспоминание, как назойливую муху. Прошлое было мертвее, чем тот зверь, на которого он ставил ловушку.
Он выкопал неглубокую ямку, установил изогнутую дугой ветку, закрепил петлю. Потом тщательно укрыл всё листьями и мхом. Даже зная, где она, её было почти не видно. Это принесло ему тень довольства, жалкий отголосок той гордости, которую он когда-то испытывал, выстраивая дружину перед боем. Теперь его дружиной были ветки и верёвки.
Выбирая место для второй ловушки, он прислонился к стволу старой сосны, чтобы перевести дух. В ноге будто копошились и жалили сотни ос. Он скользнул взглядом по коре и замер. Старые, почти заплывшие смолой зарубки. А у корней, вросшая в мох, темнела полоска полусгнившей верёвки. Кто-то уже ставил здесь силки. Давно. Он шатнулся в сторону, и носок сапога наткнулся под хвоей на что-то твёрдое. Ратибор отгрёб листья. Из земли торчали два ржавых полукруга с тупыми зубьями – старый волчий капкан. В нос ударил кислый дух ржави. По искалеченной ноге пробежал ледяной укол, эхо того удара молотом десять лет назад. Он невольно перенёс вес на здоровую ногу. Перед глазами на миг встал волк, перегрызающий себе лапу в такой же ловушке, и в его жёлтых глазах – только ненависть.
Он выпрямился, сплюнул. Этот лес был старым охотничьим угодьем. И не только для людей. Он вспомнил тела каторжников, их пустые глаза. Здесь каждый охотился на каждого. И каждый мог стать добычей.
Неподалёку он нашёл место, где вчера вечером, на пределе сил, поставил ещё одну петлю в надежде на утреннюю добычу. Пусто. Силок был сорван, приманка – кусок чёрствого хлеба – исчезла. На влажной земле отпечатались мелкие следы лисы. Тварь оказалась хитрее. Ратибор выругался сквозь зубы. Мир не давал ничего даром.
Лют всё это время стоял поодаль, прижавшись к дереву, как испуганный зверёк. В его глазах Ратибор видел уже не только страх, но и что-то ещё – кривое, удивлённое любопытство. Он впервые видел воеводу не пьяным калекой и не безжалостным убийцей, а мастером, занятым своим делом. От этого молчаливого взгляда в груди у Ратибора поднялась мутная злость. Лучше бы он ныл.
– Хвороста принеси, – рыкнул он, не глядя на вора. – Сухого. И чтоб я тебя видел.
Он сказал это не потому, что ему нужна была помощь. Он просто хотел, чтобы Лют сгинул с глаз, перестал быть молчаливым свидетелем его дела. Чтобы тот занялся хоть чем-то, кроме дрожи.
Когда он заканчивал, из-за деревьев бесшумно вышла Зоряна. Она несла в подоле пучок каких-то бурых кореньев и связку бледных грибов. Она остановилась в нескольких шагах и молча наблюдала за ним. Её взгляд скользнул по его рукам, по натянутой петле, по укрытой ямке. В нём не было ни одобрения, ни осуждения – только холодное внимание ловчего, изучающего чужую западню. Она видела не сломленного человека, а лишь зверя, готовящего свою западню. И в этом молчаливом взгляде было больше признания, чем в любом слове похвалы. Он проигнорировал её, заканчивая дело. Теперь оставалось только ждать.
Вечер опустился на лес быстро, словно кто-то накрыл его мокрой серой тряпкой. Тишина сгустилась, стала почти осязаемой, давящей. Птицы замолчали, и единственным звуком был тихий треск углей в костре, который они разожгли под навесом. Одна из ловушек сработала. В петле бился небольшой рябчик – жалкая добыча, но всё же добыча. Его уже ощипали, и теперь он жарился на вертеле, источая дразнящий запах.
Но Люта не было.
Сначала Ратибор не обращал на это внимания. Прошёл час, потом второй. Солнце коснулось верхушек деревьев, окрасив небо в болезненные, фиолетово-ржавые тона. А вор так и не появился. Ратибор сидел, уставившись в огонь, и убеждал себя, что ему всё равно. «Сбежал, мелкий ублюдок. Скатертью дорога. Меньше ртов, меньше забот. Наверняка прихватил что-нибудь. Хотя что у нас брать? Дырку от бублика». Эта мысль должна была принести облегчение, но вместо него на дне души шевельнулось что-то неприятное, похожее на занозу.
– Он ушёл, – голос Зоряны прозвучал в тишине сухо, как хруст мёртвой ветки. Она не смотрела на него, её взгляд был прикован к обугленным кореньям, которые она ворошила в золе. – Или его унесли.
Ратибор промолчал.
– Теперь он – поводырь для них, – продолжила она тем же ровным, безжалостным тоном. – Поводырь, что приведёт прямо к нам. Он расскажет им всё. Где мы, сколько нас, что ты хром и почти безоружен. Он будет кричать это, лишь бы ему сохранили жизнь.
Её слова были как капли яда, падающие на открытую рану. Ратибор чувствовал, как внутри закипает глухая, холодная ярость.
– Твоя ошибка, воевода, – она наконец подняла на него глаза. В них плясали отблески костра, и казалось, что зрачки её раскалены докрасна. – Ты оставил слабого без присмотра.
Удар пришёлся точно в цель. Не в воеводу Ратибора, а в того сломленного, виноватого человека, который десять лет носил в себе крики умирающих дружинников у Соснового Брода. Тогда он тоже допустил ошибку. Тоже не учёл слабость – свою собственную гордыню. И цена была написана кровью десятков его людей.
Он резко встал, с силой оперевшись на топор. Камни под топорищем заскрипели. Боль в ноге взорвалась, вышибая воздух из лёгких. Мир на миг сузился до белого пятна перед глазами, а все звуки слились в один низкий, тягучий стон. «Сука. Старая, вонючая сука. Она знает. Она не может знать, но она бьёт именно туда. Как будто видит эту дыру у меня внутри». Желваки на его челюстях заходили камнями. Дыхание стало прерывистым. Старая боль в раздробленной кости отозвалась рядом с настоящей болью в лодыжке, и на мгновение он снова оказался там. В нос ударил густой запах горячей крови и сосновой смолы, а в ушах зазвенел крик молодого Олега – тонкий, рвущийся, оборванный на полуслове. Вкус желчи поднялся к самому горлу.
Он не ответил ведьме. Вместо этого, хромая и опираясь на топор, он пошёл к тому месту, куда днём отправил Люта за хворостом. Он должен был убедиться. Не потому, что беспокоился о воре. А потому, что не мог вынести мысль о ещё одной ошибке, которая приведёт к смерти. К его смерти.
Следы на влажной земле были отчётливыми. Вот отпечатки худых, стоптанных сапог Люта. Они метались по небольшому пятачку, будто он не мог решить, какие ветки лучше. А потом… потом след изменился. Глубокая борозда, будто что-то волокли. И рядом – смазанные отпечатки тех же сапог, но один из них едва касался земли. Ратибор присел на корточки, игнорируя протестующий вопль в ноге. Он внимательно осмотрел землю. Не было следов четырёх или пяти пар тяжёлых дружинных сапог. Не было признаков борьбы, вытоптанной травы.
«Здесь не было дозора, – понял он. – След один. И он не шёл, а тащился. Его не вели в полон. Случилось что-то другое». И эта неизвестность была страшнее открытого боя. Враг, которого ты знаешь, предсказуем. Тварь, которая таится в сумерках, может быть чем угодно.
Он выпрямился и выругался. Громко, грязно, отчаянно. Ярость поднялась не на Люта, не на ведьму. На себя. На то, что задело. На то, что внутри него ещё осталось что-то, кроме желания сдохнуть. Какая-то ржавая пружина, что заставляла его выпрямляться и исправлять свои ошибки.
– Старая, пошли, – бросил он через плечо, не глядя на Зоряну. – Посмотрим, какая тварь здесь охотится.
Он шёл не спасать вора. Он шёл убивать угрозу.
Сумерки в лесу были обманчивы. Они не наступали, а просачивались снизу, от влажной земли, заполняя овраги и низины вязкой, серой мглой, в которой тонули звуки и очертания. Ратибор шёл по следу, и каждый шаг был пыткой. Воспалённая лодыжка горела огнём, но он упрямо двигался вперёд, отмечая каждую сломанную ветку, каждый клочок ткани, зацепившийся за куст шиповника. Он снова был воеводой, ведущим свой самый жалкий отряд – из одного калеки и одной ведьмы – по следу пропавшего бойца, который и бойцом-то никогда не был.
Зоряна шла рядом, почти бесшумно. Она не смотрела под ноги. Её голова была слегка наклонена, будто она прислушивалась к чему-то, недоступному его слуху, – к шёпоту самой земли. Её глаза в полумраке казались двумя тёмными провалами.
След вёл их в неглубокий, заросший бурьяном и колючим кустарником овраг. И там они услышали звук. Тихий, прерывистый, жалобный скулёж, похожий на плач раненого щенка. Ратибор замер, подняв руку, и вслушался. Звук повторился, где-то впереди, за густыми зарослями.
Он раздвинул ветки. В самом центре оврага, на земле, лежал Лют. Он был скорчен в неестественной позе, и его била дрожь. Его правая нога была зажата в старом, покрытом бурой коркой ржавчины волчьем капкане. Точной копии того, что Ратибор нашёл утром. Зубья глубоко вошли в плоть чуть выше щиколотки, штанина пропиталась тёмной кровью. Резкий, кислый запах ржави и свежей крови ударил в нос, перебивая даже сырой дух оврага. А рядом с Лютом, аккуратно сложенная, лежала вязанка сухого хвороста. Даже попав в ловушку, даже умирая от боли, он выполнил приказ.
Ратибор спустился в овраг. Лют поднял на него голову. Его лицо было белым как полотно, а в огромных, полных слёз глазах не было ничего, кроме боли. Зрачки расширились, превратившись в чёрные колодцы, губы были искусаны в кровь. Он не кричал, только мелко, как собака, скулил, и от этого звука у Ратибора захолодело в нутре.
– Помо… ги… – прошептал он.
Ратибор опустился на колено рядом с ним. Капкан был старый, пружины его заржавели и забились землёй. Упершись здоровой ногой в землю, он схватился за две половины ловушки. Металл был холодным и скользким от крови. Ратибор потянул, но пружина держала мёртвой хваткой. Выругавшись, он отпустил.
– Топор, – прохрипел он, не глядя на Зоряну.
Она молча подала ему его оружие. Ратибор просунул топорище между ржавых челюстей, упёр обух в пружинный узел. Он упёрся здоровой ногой в землю, навалился всем весом на древко топора, используя его как рычаг. Дерево затрещало, сухожилия на руках натянулись до предела. Боль в его собственной ноге взорвалась, но он давил, рыча сквозь стиснутые зубы. Раздался громкий, визгливый скрежет ржавого металла, и одна из пружин, не выдержав, поддалась. Челюсти капкана разошлись на пару вершков. Этого хватило. Ратибор выдернул ногу Люта из ловушки. Тот коротко вскрикнул и обмяк, потеряв сознание.
Ратибор рухнул на землю рядом, тяжело дыша. Он опёрся спиной о сырой склон оврага, закрыл глаза. Всё тело было мокрым от пота. Он смотрел на разорванную штанину вора, на изуродованную, рваную рану, из которой сочилась тёмная кровь. И в его взгляде не было ни злости, ни презрения. Только тяжесть в плечах и гул в голове. Такая усталость, что хотелось просто лечь лицом в грязь и не вставать. Он видел не трусливого воришку, а просто ещё одного калеку. Ещё один кусок мяса, который этот мир пожевал и выплюнул. Такой же, как и он сам.
Они сидели у костра. Ночь окончательно вступила в свои права, окружив их маленькое убежище плотной стеной тьмы, в которой шевелились и перешёптывались невидимые твари. Подстреленный рябчик, разделённый на троих, исчез за несколько мгновений, оставив после себя лишь горькое чувство неутолённого голода.
Ратибор, отбросив брезгливость, заканчивал перевязывать ногу Люта. Он промыл рану последней водой из бурдюка, а потом оторвал от подола своей и без того рваной рубахи длинную, относительно чистую полосу ткани. Лют пришёл в себя и молча следил за его руками. Он не стонал, не плакал, только изредка его тело сотрясала крупная дрожь. Когда Ратибор затянул последний узел, Лют посмотрел на него огромными, влажными глазами. В этом взгляде не было страха. Было что-то другое, что-то, чего Ратибор не мог и не хотел понимать – кривое, удивлённое подобие благодарности. И это было хуже страха.
Когда он выпрямился, рядом бесшумно возникла Зоряна. Она протянула ему небольшой, грубо вылепленный из глины горшочек, от которого исходил сильный, терпкий запах мха, смолы и чего-то ещё, острого, почти лекарственного. Внутри была тёмно-зелёная, густая мазь.
Ратибор посмотрел на горшочек, потом на неё. Его недоверие было таким же плотным и реальным, как камень, на котором он сидел.
– Какая цена на этот раз? – спросил он сквозь зубы. Голос его был хриплым. Он не верил в её доброту. В этом мире у всего была цена, особенно у милосердия. Он спрашивал не о мази. Он спрашивал, какой новый долг теперь висит на нём и на этом бесполезном мешке с костями, который он только что вытащил из капкана.
Зоряна не ответила сразу. Она смотрела не на него, а в самое сердце огня, и пламя отражалось в её тёмных глазах, делая их похожими на два колодца, ведущих в преисподнюю.
– Этот, – кивнула она на Люта, – теперь твой. Хромой пёс за хромым хозяином. Смотри, чтоб дошёл.
Она говорила на его языке. На языке жестокой пользы. Это была не помощь, а вложение. Не милосердие, а расчёт. Она не спасала Люта. Она лишь чинила то, что было надобно для пути. И Ратибор понял, что этот ответ – единственная форма честности, на которую они оба были способны.
Он молча взял горшочек. Глина была тёплой, шершавой. Это было признание того, что все они увязли в этой топи вместе. Он зачерпнул пальцем пахучую мазь и, не обращая внимания на испуганный вздох Люта, грубо втёр её в края раны.
Они сидели втроём у догорающего костра. Никто не говорил ни слова. Но в тишине больше не звенело недоверие. Остался лишь треск углей да ровное, тяжёлое дыхание трёх измученных существ, объединённых не целью, а лишь необходимостью сделать следующий шаг в темноту.
Глава 5
День прошёл в тягучей, молчаливой работе. День, наполненный не только скрипом топора, но и тревогой ночных дежурств и пустым урчанием в животе, ушёл на создание волокуши. Ратибор, матерясь сквозь зубы на собственное упрямство, мастерил её. Его топор, привыкший к костям и плоти, теперь неохотно вгрызался в сырую древесину молодых осин. Руки, забывшие ремесло, покрылись занозами. Он обдирал липовую кору, разбивал её обухом топора, сплетая из лыка грубые верёвки, которыми скрепил неказистое, кособокое сооружение. Оно скрипело и шаталось под весом Люта. Ратибор мрачно посмотрел на свою работу: долго эта хлипкая вещь не выдержит. Но сейчас она держала.
Эта нудная, кропотливая возня выскребла из него остатки терпения. Телесная усталость, ломающая кости, была привычна. Но это… это было хуже. Каждый удар топора, каждый скрип лыка был напоминанием: он снова впрягся. Снова взвалил на себя обузу за чужую никчёмную жизнь. Чутьё, которое он годами топил в дешёвой браге, вылезло наружу, как червь из гнилого мяса, и Ратибор ненавидел его больше, чем боль в ноге, больше, чем князя и его приказ.
Утро второго дня встретило их тем же серым, безразличным светом, что сочился сквозь плотные кроны. Ратибор, не завтракая, накинул на плечи грубые лямки из лыка. Они тут же впились в тело, натирая старые рубцы. Он нагнулся, всем весом наваливаясь вперёд. Волокуша с неохотным скрипом стронулась с места, прочертив по влажной земле две глубокие борозды. Лют на ней, укрытый рваным плащом, был похож на мешок с тряпьём. Он лежал неподвижно, боясь издать лишний звук, лишь изредка по его телу проходила дрожь, когда ногу сводило судорогой от боли. Сбоку, не нарушая тишины, ступала Зоряна; её шаги тонули во мху, словно она была его частью. Он не слышал её, только ощущал, как колыхнулся воздух, когда она проходила рядом.
Он шёл, и в голове не осталось ничего, кроме отбоя: шаг – боль, шаг – боль. В искалеченной лодыжке, отдохнувшей за день, теперь с каждым шагом будто поворачивался заржавевший гвоздь; он почти чуял, как худо сросшиеся кости трутся друг о друга, грозя сломаться снова. Каждый корень, каждый камень под ногой отзывался тупым ударом, от которого по жилам вверх, до самого бедра, бежала горячая волна. Ратибор сжимал кулаки так, что ногти впивались в ладонь. Мир сузился до пятачка влажной земли в двух шагах перед ним. Он перестал быть воеводой, перестал быть человеком – осталась только тягловая скотина, упрямо волокущая груз к бойне.
Лямки врезались в плечи, натирая старые рубцы до мяса. Снова. Снова тянешь эту лямку, воевода. Только раньше за тобой шла дружина, а теперь – ведьма и вор. Раньше ты вёл их к славе или смерти, а теперь просто тащишь бесполезный мешок с костями в проклятое болото.
Ты же сдохнуть хотел в придорожной канаве, тихо, без свидетелей. Утонуть в собственном похмелье. А вместо этого снова впрягся в чужую войну, в чужую нужду. И ведь никто не просил. Сам. Сам, дурень, полез вытаскивать этого червя из капкана.
Потому что не мог оставить. Потому что «своих не бросают». Каких, к херу, «своих»? Эта старая карга продаст тебя за пучок сушёной травы, а воришка перережет глотку за медную монету. Нет у тебя «своих». Они все остались там, у Соснового Брода, гниют в земле десять лет. А ты всё никак не сгниёшь.
Часы сливались в один бесконечный, однообразный труд. Скрип волокуши, собственное хриплое дыхание, чавканье грязи под сапогами. Лес не менялся. Всё те же скрюченные стволы, всё тот же запах прелой листвы и гнили. Каждый шаг был похож на предыдущий, и казалось, они часами идут на одном месте. Наконец, бурелом поредел, и они вышли на некое подобие дороги. Старый, заброшенный тракт, давно заваленный упавшими стволами и размытый дождями. Полозья волокуши заскользили по грязи чуть легче, но отрады это не принесло.
Ратибор остановился, тяжело переводя дух. И в этот миг его ударила тишина. Не просто отсутствие звука. Это была плотная, давящая пустота. Птицы смолкли. Замерли в траве кузнечики. Даже ветер затих в высоких кронах. Ничего. Только его собственное дыхание, похожее на работу кузнечных мехов, тихий стон Люта и скрип сырого дерева. Чутьё, отточенное сотнями таких же лесных переходов, взвыло внутри него, как натянутая тетива. Это была тишина засады. Тишина места, где охотник уже затаился и ждёт.






