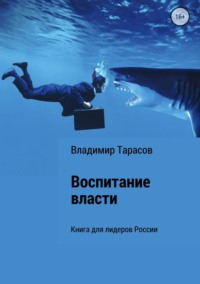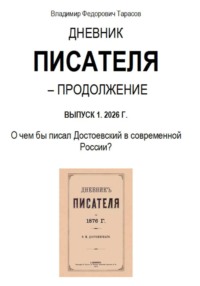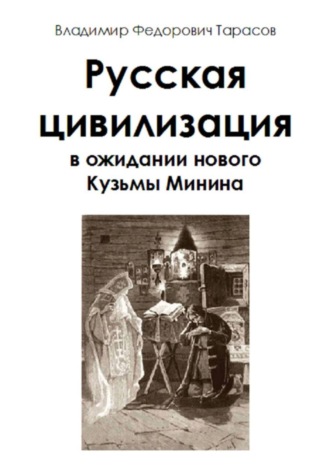
Полная версия
Русская цивилизация в ожидании нового Кузьмы Минина
Таким образом, чтобы капитализм в России эффективно функционировал, в ее экономике должен быть реализован принцип Адама Смита. Но этого не происходит, отчасти из-за того, что чиновники, да и экономисты, бизнесмены и политики не знают этого закона природы.
Кроме того, существуют и другие законы природы, обеспечивающие эффективное функционирование капиталистической экономики, которые в России не реализованы. Это и есть причина неэффективности капитализма в РФ.
А это, в свою очередь, повторим, связано с тем, что люди в своих рассуждениях не используют научный способ мышления, требующий поиска причинно-следственных связей и опоры на законы природы, а применяют способ мышления, который Торстейн Веблен считал присущим финансистам. Конечно, приведенных выше примеров рассуждений недостаточно для столь серьезного вывода, но он будет подтвержден другими примерами, рассмотренными в главах 11, 15 и 18 данной книги.
Такая ситуация в России наблюдается не первый раз. В частности, во время Смуты 17 века также не соблюдались некоторые законы, обеспечивающие эффективное развитие экономики, и капитал выводился из страны, только не иностранными инвесторами и отечественным крупным бизнесом, а иностранными захватчиками. Но тогда нашлись люди, которые сумели изменить ситуацию.
ЧАСТЬ 2. Смута 17 века и современная Россия
Глава 6. Кандидаты на роль современного патриарха Гермогена: Евгений Примаков и Александр Зиновьев
Важную роль в патриотическом подъеме в период Смутного времени в России в 17 веке сыграл патриарх Московский и всея Руси Гермоген, который обращался к россиянам с призывами, в частности, к защите родины от интервентов и православия от ереси. В наше время к этим призывам следует добавить требование очистить научные знания по экономике и социологии от псевдолиберальных идей, а саму науку от способа мышления, свойственного финансистам. В современной России были общественные и государственные деятели, которые уже предлагали сделать это.
Период, который в настоящее время переживает Россия, повторим, имеет много общего с временами Смуты в начале 17 века. Сейчас страна защищается от проникновения псевдолиберальной идеологии и борется за сохранение традиционных национальных ценностей в культуре, истории и религии. Но в сфере экономики просто беда. Во-первых, у политиков, чиновников, бизнесменов, экономистов и финансистов нет научных знаний о многих законах природы, так как они обучались по учебникам «экономикс». Во-вторых, многие из них не используют в рассуждениях научный способ мышления, заключающийся в поиске причинно-следственных связей.
Но имеются и люди, которые уже призывали бороться с указанными проблемами, то есть по сути делали то, чем четыре века назад занимался патриарх Гермоген. Один из них – экс-министр иностранных дел и премьер-министр России Евгений Примаков, которому в Москве даже поставили памятник, но в сути его экономических и социальных идей российское общество пока толком не разобралось. Принято считать, что он был патриотом и государственником, эта часть его представлений признана, и в сфере внешней политики отчасти реализуется. Но у него имелись и другие идеи.
6.1. Евгений Примаков призвал объединить либерализм и социально-ориентированную экономику
Он не только, как было отмечено ранее, назвал неолиберализм псевдолиберализмом, подчеркивая имеющий место обман, но и предложил в качестве национальной идеи, которая мобилизовала бы российское общество в его движении в будущее, «объединение социально ориентированной политики и экономики с истинно либеральными ценностями».
В частности, он отметил, что «Российские неолибералы отвергают возможность доминирования государства в экономике. Конечно, тенденция отказа от такого доминирования существует и должна развиваться. Но это отнюдь не означает, что в определенные исторические периоды, а я считаю, что сегодня мы находимся именно в таком периоде, отказ от государственного доминирования в экономике не соответствует интересам России, нашего общества».
Евгений Примаков представил свои рассуждения как лично свое мнение, а не следствие каких-то законов природы и применения научного способа мышления, хотя и привел в качестве обоснования пример государственного регулирования экономики в США в годы Франклина Рузвельта.
А эти законы известны. В частности, как уже было отмечено ранее, Адам Смит отметил, что эгоистичный бизнесмен приносит пользу обществу, когда он вкладывает капитал в своей стране и стремится произвести продукт с максимальной стоимостью. Многие российские крупные бизнесмены этот закон успешного функционирования капиталистической экономики не выполняют – стремятся вывести капитал за рубеж, а в России только добывать сырье и сбывать его за границу. Поэтому капитализм (рынок) в России неэффективен, и государство обязано контролировать бизнесменов, наставлять их на путь истинный и само заниматься экономикой. И делать это оно должно не потому что это мнение Евгения Примакова или Адама Смита, а потому что этого требуют законы экономики, обеспечивающие ее успешное функционирование и развитие.
Евгений Примаков не указал на закон, согласно которому в некоторые исторические периоды нельзя отказываться от государственного доминирования в экономике. Это сделал еще в 19 веке Джон Стюарт Милль. Он в работе «О свободе» написал, что «свобода не применима как принцип при таком порядке вещей, когда люди еще не способны к саморазвитию путем свободы». То есть, если бизнесмен не предпочитает оказывать поддержку отечественному производству и не стремится к деятельности, обеспечивающей максимальную прибыль, то он не способен к свободной жизни, и предоставлять ему свободу в сфере экономической деятельности нельзя.
В случае России это означает, например, что члены Российского Союза промышленников и арендаторов могут быть освобождены от налогообложения по прогрессивной шкале в том случае, если они сами примут решение о добровольном перечислении в бюджет, допустим, 40–50 % личных доходов, а также об объявлении бойкота всем бизнесменам, которые добровольно не присоединяться к этой инициативе. Подобное решение они должны были бы принять и по поводу инвестиций в России и вывода капитала за рубеж. Вот в этом случае бизнесменам может быть предоставлена свобода, и в стране можно отказываться от доминирования государства.
Но в России этого нет, таким образом, капитализм в стране плохо функционирует не из-за слишком высокого регулирования государством экономики и его участия в ней, а прямо наоборот – вследствие излишней свободы, предоставленной крупному бизнесу государством.
В то же время, например, экономика Китая организована в соответствие с указанными законами экономики, что обеспечивает ее бурное развитие. Это можно понять, оценивая динамику ВВП России и Китая с 2000 года, рассчитанных в долларовом выражении. В 2000-м году российская экономика составляла примерно пятую часть китайской, а в 2024 году – только десятую часть. При этом до 2014 года экономики двух стран поднимались примерно одинаковыми темпами. И что же произошло в России в 2014 году? – А свободу крупного бизнеса расширили: внедрили экономную бюджетную политику, то есть ограничили экономическую активность государства, и расширили свободу крупного спекулятивного капитала, введя плавающий курс российского рубля, в условиях, когда капиталисты и чиновники к работе в условиях свободы были не готовы (как, впрочем, и сейчас).
В результате экономический рост в стране резко замедлился, в то время как Китай продолжал развиваться, поддерживаемый невидимой рукой экономических законов. А в России эта самая невидимая рука затормозила развитие страны. И теперь Китай самостоятельно осваивает Луну, и весь мир не знает, как «защититься» от наплыва дешевых и качественных китайских товаров, тогда как в России только-только начали думать о том, как бы организовать их производство, и где бы найти на это деньги и людей.
В настоящее время сильные и богатые в России – капиталисты и чиновники – не готовы к развитию путем свободы. Поэтому становление либерализма и свободы в стране в целом состоит в ограничении их вседозволенности, которую они ошибочно считают свободой. И в настоящее время идет борьба некоторых структур государства и части общественности против вседозволенности крупного капитала и чиновников, которые наносят вред своей стране. Правда, у Владимира Путина, представляющего государство, действительно, не хватает либерализма, но не потому что он слишком деспотичен, а потому что он слишком «мягкий» для либерала, потому что он недостаточно решительно ограничивает вседозволенность крупных капиталистов, которые наносят вред стране. Так, например, прогрессивную шкалу налогообложения в России ввели совсем недавно, и со ставками, которые намного ниже, чем в странах Запада, где еще сохранились некоторые принципы либерализма, несмотря на деградацию за последние 40 лет.
Неготовность крупных бизнесменов и чиновников к свободе наглядно демонстрирует обсуждение вопроса о прогрессивной шкале налогообложения. Ее верхний предел установили равным всего 22 %, но представитель сильных и богатых – президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предлагал рассмотреть вопрос об уменьшении количества ставок прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц и ограничении ее верхней планки уровнем 18 %. Это предложение как раз и указывает не неготовность российских бизнесменов к свободе. Мало того, что они зарабатывают деньги в России, а выводят их за рубеж, так еще налоги хотят платить поменьше. Если бы они были готовы к свободе, они сами бы давно предложили повысить налоги для себя до уровня, существующего в экономически развитых странах, куда они, кстати, и выводят свои капиталы, то есть до 40–50 %.
6.2. Правильное отношение к капиталистам
Российские бизнесмены не понимают, что они вредят другим жителям своей страны, выводя полученные в России деньги за рубеж и уплачивая низкие налоги. Ситуацию в сфере государственного управления в современной России можно сравнить с игрой детей со спичками. Когда дети маленькие, и не понимают, что играть со спичками опасно, им нельзя предоставлять свободу, так как они начнут баловаться и сожгут, чего доброго, дом. А вот когда они вырастут и поймут, что играть со спичками нельзя, им можно будет предоставить возможность свободно пользоваться спичками. Точно так же и капиталистам можно предоставить, в частности, свободу вывода капитала за рубеж только тогда, когда они сами поймут, что это делать не следует. Вначале – умение пользоваться свободой, не нанося вреда другим людям и стране, а потом свобода, а не наоборот, как это произошло в России.
А раз такого умения у российских бизнесменов, за некоторыми исключениями, нет, и они не понимают, что капитал – это не игрушка, и владение им налагает некоторую ответственность на собственника перед обществом, то и государство должно ограничивать их свободу управления деньгами. Аналогично тому, как родители должны ограничивать свободу обращения детей со спичками.
На всякий случай надо отметить, что рассуждения о вреде, которые наносят обществу российские капиталисты, не следует понимать как упрек и обвинения в их адрес, так как использование ими метода финансистов – это не вина их, а беда. Они не виновны в том, что их так обучили. Они не виновны в том, что не разобрались в особенностях метода финансистов – ведь все это произошло под давлением мощной пропагандистской системы в условиях разрушения национальной научной школы в России. Точно так же и дети не виновны в том, что они склонны баловаться – их еще не воспитали. Поэтому и капиталистов в России надо не преследовать и уничтожать, а воспитывать.
Кроме того, надо понимать, что несмотря на тот вред, который наносят стране капиталисты, пользующиеся свободой, к которой они не готовы, нельзя просто взять и ограничить их свободу. То есть нельзя, допустим, завтра повысить подоходный налог для миллиардеров, допустим, до 40–50 %, и запретить им вывод капитала за рубеж. Ни к чему хорошему это не приведет. Подобные меры должно осуществляться постепенно, с соблюдением законов природы, регулирующих экономику, обеспечивая капиталистам возможность увеличения их капитала, и их согласие с принимаемыми мерами.
Сложившуюся ситуацию в российской экономике хорошо иллюстрирует советский противопожарный плакат с подписью, сделанной Владимиром Маяковским. Он написал, что детей нельзя оставлять одних, так как они балуются со спичками, что может привести к пожару. Точно так же нельзя оставлять без присмотра российских бизнесменов, которые не понимают, что своими свободными действиями они могут наносят вред стране, да и делают это. С другой стороны, Маяковский всего предложил всего лишь не оставлять детей одних, но не запретить им баловаться, отобрать игрушки, выпороть и т. п. То есть, проявить к ним внимание, до тех пор, пока в результате естественного процесса роста и развития они не станут взрослыми.
Точно так же и увеличение налогов, ограничение вывода капитала и т. д. должно осуществляться постепенно, с соблюдением законов природы, регулирующих экономику и действия капиталистов, то есть в результате естественно-исторического пути развития жителей страны (не только капиталистов), аналогичному взрослению детей. Именно такое отношение к ним является цивилизованным и научно обоснованным, то есть правильным с точки зрения законов природы, регулирующих экономику в частности, и общество в целом. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен в главе 17 «Как переубедить российских финансистов», да собственно, вся эта книга посвящена изучению того, как будет происходить процесс «взросления» российского бизнеса и общества в целом, который приведет к некоторому балансу интересов бизнеса и общества, который в настоящее время в России не соблюдается, что разрушает страну.
6.3. Призыв Евгения Примакова не был услышан
Повторим, мнение Евгения Примакова об объединении социально ориентированной политики и экономики с истинно либеральными ценностями соответствует научному знанию и правилам рассуждений, хотя он сам и не сформулировал свое мнение в таком виде. Он, в частности, не указал на законы природы (представленными нами в версии Адама Смита и Джона Стюарта Милля), которым соответствует его точка зрения.
Возможно, отчасти поэтому призыв Евгения Примакова оказался неуслышанным, и никто об его экономических идеях в России не вспоминает, хотя памятник поставили. Проводятся «Примаковские чтения» – встречи экспертов в сфере международных отношений и мировой политики. Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений был назван его именем. Но о рассуждениях Евгения Примакова о псевдолиберализме и его предложении по национальной идее и экономической политике забыли.
Более того, главный научный сотрудник указанного выше института Владимир Пантин в соавторстве с Кириллом Родионовым в июле 2024 года представили доклад «Эпоха реформ и потрясений. Россия и мир в период до 2040 года», в котором содержатся идеи, прямо противоположные взглядам Евгения Примакова. Авторы доклада считают, ссылаясь на представления об экономических циклах Николая Кондратьева, что Россию в ближайшие годы ждет экономическая и политическая либерализация, то есть ослабление власти государства и приватизация, что может создать условия для некоторой нормализации отношений с США и для выхода страны из радикальной конфронтации со странами Запада. А в конце цикла – в 2038–2041 годах, по их мнению, произойдут процессы, аналогичные тем, которые имели место в конце 1960-х годов во Франции, где под влиянием студенческой революции произошла отставка президента Шарля де Голля.
Все это прямо противоположно идеям Евгения Примакова. Как и он, Шарль де Голль хотел объединить либерализм с социальной экономикой, только использовал другие термины. В 1968 году президент Франции заявил следующее: «Мы отвергаем как тоталитарный коммунизм, так и старый эгоистичный капитализм. Мы будем искать третий путь, предполагающий не классовую борьбу, а классовый мир. Мы должны стремиться к ассоциации труда и капитала». Но ему не удалось осуществить этот проект, так как в последние десятилетия прошлого века во Франции был сделан крен в пользу власти капитала, плоды которого она и пожинает сейчас. Франция постепенно превращается в страну, где, как говорят, когда-то жили французы: в настоящее время в ней осталось всего немногим более 70 % коренных жителей, и с каждым годом их становится все меньше.
Прогнозы Владимира Пантина и Кирилла Родионова противоречат законам экономики, так как мир действительно развивается циклически, но, чтобы произошла нормализация отношений России с США, экономическая и политическая либерализация должна произойти не в России, а в странах Запада, где в последние десятилетия отказались от либерализма, заменив его псевдолиберализмом, и называя его неолиберализмом для придания позитивного имиджа. Впрочем, бывают исключения: президент Аргентины Хавьер Милей честно назвал свои идеи анархо-капитализмом. Это более точное название того общественного строя, который сейчас стремятся сформировать элиты в некоторых западных странах.
6.4. Александр Зиновьев призвал к научному способу мышления
Евгений Примаков призвал, по сути, к проведению экономической политики в России, соответствующей законам природы, но не затрагивал проблему способа мышления (если не считать рассуждений о псевдолиберализме). Это сделал советский и российский философ, писатель и логик Александр Зиновьев. В книге «На пути к сверхобществу» он обратил внимание на проблему, связанную с недостаточным использованием в обществе научного способа мышления: «научный подход к социальным объектам составляет лишь ничтожную долю в колоссальной продукции сферы профессиональных социальных исследований».
По его мнению, в обществе «… сложился своеобразный способ сочинительства и разговоров в сфере социальных явлений, который я называю интеллигентски-обывательским способом мышления. Для него характерны такие черты. Не стремление к ясности и к истине, а стремление произвести нужное впечатление на слушателей или читателей, создать видимость знаний, ума, глубины мысли, оригинальности и т. п. Сказать много, но хаотично и тенденциозно. Блеснуть эрудицией. Ссылаться на известные авторитеты прошлого и настоящего. Профессионально извращать позицию противников. Уклоняться от риска. Манипулировать множеством словесных штампов выгодным для себя способом. Из множества частных истин конструировать суммарную и результатную ложь. Прятать ложь в массе отдельных истин подобно тому, как сравнительно умные преступники прячут преступления в массе по отдельности непреступных поступков. Короче говоря, принимать участие в словесных спектаклях на тех ролях, какие удается захватить в жизненных ситуациях. Этот способ мышления в наше время высочайшего уровня образованности, средств информации и общения стал характерным для состояния умов в сфере социальных проблем».
К сожалению, это мнение во многом справедливо, причем не только в сфере социальных проблем, но и в экономических. Имеются исключения, но их немного, и отличить научный подход от такого способа мышления практически никто не умеет. Да большинство людей и не пытается это делать.
Александр Зиновьев не ограничился констатацией отказа значительной части общества от научного способа мышления, а попробовал описать такой подход и применить к объяснению экономических и социальных явлений. Однако его призыв и исследования практически забыты, в чем отчасти, пожалуй, виноват он сам. Он попробовал разработать научный подход и применить его с нуля, как будто он первый человек в мире, который решил это сделать. Хотя, допустим, интеллигентски-обывательский способ мышления был описан, в частности, еще писателями Федором Достоевским и Ортегой-И-Гассетом.
Александр Зиновьев написал, что его идеи по поводу методологии не являются общепринятыми и он не может порекомендовать другие сочинения по логике и методологии науки кроме своих собственных. Он представил свое видение некоторых научных методов, в частности, законов диалектики, и т. д. При этом он не ссылался на множество вполне научных исследований в сфере методологии.
Он зря так поступил, так как, в частности, мало правильно сформулировать какой-то метод рассуждений, его еще надо уметь правильно применять в разных условиях, что совсем не просто. Поэтому описание практики использования методов разными учеными важно не просто как дань уважения им, или с точки зрения истории, но и как определение условий правильно применения методов. То есть вместе с определением методов должны приводиться и примеры их использования в разных ситуациях.
Простое описание методов, как это сделал Александр Зиновьева – это что-то вроде учебника по вождению автомобиля, в то время как многочисленные исследования научного метода другими учеными – это практика вождения. Если у человека есть опыт применения методов, то он сможет оценить рекомендации Зиновьева, а если практики нет, то и от рекомендаций мало толку – использовать их будет очень сложно.
К тому же, Александр Зиновьев не заметил некоторые важные факты. В частности, то, что кроме интеллигентски-обывательского способа мышления в сфере социальных проблем используется еще и научный метода исследования причинно-следственных связей, а также способ, который Торстейн Веблен считал свойственным финансистам.
Не сослался Александр Зиновьев и на Федора Достоевского, который, повторим, доверил сделать студенту Дмитрию Разумихину в романе «Преступление и наказание» очень важные заявления о способе рассуждений: о необходимости учитывать природу человека и исследовать естественный исторический процесс развития общества, а не изобретать модели.
То есть, Зиновьев не выделил главное: проблема не в том, что, допустим, ученые, политики и чиновники в современной России не знают законов диалектики, а в том, о чем писали Достоевский и Веблен более 100 лет назад, в отказе от объективного рассмотрения фактов. Именно стремление искажать факты и путать с их интерпретациями и гипотезами, осуществляемые не случайно, а с определенной целью, является, пожалуй, основной причиной плачевного состояния современных гуманитарных наук, связанных с экономикой и социологией: теорий много, а толку от них мало – никто не может толком объяснить, куда катится мировая экономика.
Поэтому и развитие научного способа мышления в стране следует начинать именно с донесения обществу того, о чем писали Веблен и Достоевский. Но Александр Зиновьев не стал это делать, предлагая использовать сложные специальные научные методы. Возможно, поэтому его призывы к внедрению научного подхода в мышлении пока остались неуслышанными, хотя сама идея у него правильная.
Но ведь и призывы патриарха Гермогена в годы Смуты долгое время не воспринимались в обществе. Тем не менее, в конечном итоге они были услышаны, и сейчас дело идет к осознанию российским обществом того, что предлагали Примаков и Зиновьев.
К тому же, нельзя сказать, что их призывы не оставили следа вообще. Не далее, как вчера (16 октября 2025 года) я впервые услышал, как выступающий по телевидению политолог назвал представления современной европейской элиты псевдолиберальными, а не либеральными или неолиберальными, как это делается обычно. И это был молодой человек – лет 30. Существует Зиновьевский клуб – экспертная исследовательская площадка, учрежденная Биографическим институтом Александра Зиновьева, а именем Евгения Примакова, как упоминалось ранее, назван Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений, каждый год проводятся Примаковские чтения. В перспективе эти организации могут стать частью формирующегося в настоящего времени социального института, который будет поддерживать в российском обществе представления о научном способе мышления и научной экономической теории (об этом будет написано в главе 14).
Идеи, близкие к представлениям Примакова и Зиновьева, высказывали многие ученые, политики и общественные деятели, поэтому можно говорить о существовании некоторого коллективного патриарха в наши дни. Более того, есть политические партии, программы которых также основаны на подобных взглядах: ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду». Но эти структуры являются политическими силами и аналогичны Первому ополчению, созданного в период Смуты. А Примаков и Зиновьев сейчас больше представляют, как и Гермоген в 17 веке, общественное мнение, то есть процессы, протекающие вне политики и непосредственной борьбы за исполнительную и законодательную власть.
Глава 7. Чем события в современной России похожи на Смуту 17 века?
Во время Смуты 17 века в России ее элита управляла страной, не соблюдая законы природы, которые определяют успешное развитие государства. Это имеет место и сейчас. Тогда воцарение Романовых привело государственное управление в соответствие с указанными законами. Нечто подобное, только на другом уровне цивилизации и развития общества, должно произойти и сейчас.