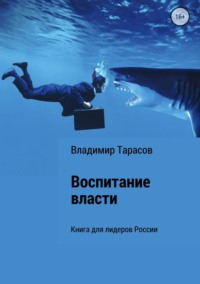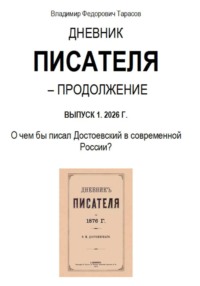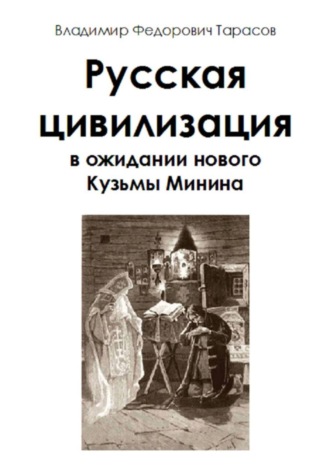
Полная версия
Русская цивилизация в ожидании нового Кузьмы Минина
Все это написано здесь не для того, чтобы защитить крепостничество, которое, конечно, является негативным явлением. Дело в том, что оно сопровождалось не только ограничением свободы слабых и бедных и расширением права угнетать их сильными и богатыми, но и мерами, направленными на защиту слабых и бедных в некоторых ситуациях от сильных и богатых, то есть антилиберальные меры сопровождались либеральными, что обеспечивало некоторый баланс интересов. Именно это, пожалуй, обеспечило длительный период существования крепостничества в стране, и то, что в отдельные периоды истории Россия вполне успешно развивалась, несмотря на крепостное право.
Кроме того, в России имелись попытки и введения механизма управления, предлагаемого Львом Сапегой, то есть усиление контроля за сильными и богатыми со стороны общества, а не центральной власти. Было множество ученых, политиков и общественных деятелей, которые стремились сочетать принципы управления Сапеги и Грозного. Их взгляды иногда называют консервативным либерализмом или либеральным консерватизмом. Это, в частности, Константин Кавелин, Борис Чичерин, Петр Струве. Можно вспомнить государственного либерального деятеля – Петра Столыпина, который боролся за свободу крестьян от притеснений со стороны дворян, а вовсе не за снижение контроля государства за дворянами и крупным капиталом.
Указанные особенности русского либерализма, вернее, особенностей формы либерализма, его реализации в русском мире (настоящий либерализм в России такой же, как и в западных странах, в Африке, в Азии и где угодно), большей частью российского общества не осознаются. Так, описание крепостного права в энциклопедиях обычно ограничивается указанием на закрепление крестьян, в то время как на установление определенных обязательств помещиков по отношению к крестьянам никто не указывает, хотя это взаимосвязанные процессы, без учета которых понять, что такое реальное крепостничество и какую роль оно сыграло в истории страны, невозможно.
Не поняли важности учета соотношения свобод разных групп населения и авторы второго Манифеста, хотя они и отметили, что «Часть граждан не осознают всю важность демократических процессов, голосуя не из-за своих убеждений, а за подачки со стороны отдельных групп лиц». То есть авторы Манифеста признают, что кроме государства и народных масс существуют какие-то «отдельные группы лиц». Но авторы не сделали из этого наблюдения никаких выводов и не задались вопросом, а кто это? Они не поняли, что это и есть сильные и богатые (по терминологии Сапеги) или талантливые или удачливые (по терминологии Хайека). Не поняли они и того, что Хайек и подобные ему идеологи занимались не научными исследованиями, а агитацией и пропагандой идей о том, что правительство не имеет права накладывать ограничения на то, чего может достичь талантливый или удачливый (фактически – сильный и богатый) человек.
За подобные идеи сильные и богатые хорошо платили, и в настоящее время они финансируют целую сеть международных псевдолиберальных организаций – фондов, фабрик мысли и СМИ, занятых распространением этой идеи по всему миру (этот вопрос подробно будет рассмотрен в пункте 14.1). Авторы второго Манифеста, насколько я понял, такого финансирования не получали, и поддерживали идеи Хайека и других псевдолибералов бесплатно из чистого энтузиазма, начитавшись, по-видимому, пропаганды этих самых фабрик и СМИ.
Непонимание принципов либерализма и национальных особенностей их реализации в России привело авторов Манифеста к неверной интерпретации происходящих в настоящее время в мире и в стране событий.
Они считали, что «Россия является государством истинно-европейским, но закованным в кандалы настоящего азиатского деспотизма». … «Россия столетиями шла с одной задачей – стать свободной, и почти вся история России это борьба свободы против деспотии». Это неправда: история России гораздо сложнее – это история борьбы сильных и богатых не только против деспотии, но и сильных и богатых со слабыми и бедными, борьбы государства с сильными и богатыми в целях защиты слабых и бедных, а также слабых и бедных против государства за сильных и богатых, и против деспотии сильных и богатых за государство. История России – это история борьбы не двух, а трех сил (которые, кстати, также делятся на разные группы). И богатые и сильные в этой истории далеко не всегда занимали сторону свободы, довольно часто они стремились к своей личной деспотии, которую они называют свободой.
2.4. Просвещение требуется для многих людей, считающих себя либералами
Всего перечисленного выше авторы второго Манифеста не поняли. Но есть у них и вполне разумные соображения. В частности, они выдвинули тезис, что «без просвещения демократия бесполезна и губительна».
Тезис, безусловно, правильный, хотя и непонятно, почему они не сослались на людей, которые до них в разных формах уже утверждали нечто подобное. Впервые произошло это, пожалуй, еще во времена греческой демократии более двух тысяч лет назад, когда там к власти в городах начали приходить демагоги – мошенники, дающие пустые обещания и обманывающие народ.
Можно найти пример и посовременнее. В частности, в США конце 19 века либеральная интеллектуальная элита общества – ученые, писатели, журналисты – создавали просветительские организации и пытались внедрить в обществе определенный кодекс ценностей, который назвали «Цивилизацией, Культурой и Усовершенствованием». Среди таких просветителей был и будущий президент США Теодор Рузвельт, который вместе с выпускниками Гарвардского университета в 1882 году организовал клуб, в котором печатали памфлеты под рубрикой «советы молодым избирателям».
Таким образом, хотя авторы второго Манифеста считают, что именно они должны кого-то просвещать, но просвещать нужно, в первую очередь, их самих, так как у них не хватает знаний, необходимых для рационального мышления, позволяющего принимать правильное решение на демократических выборах. Что такое либерализм, они не знают, да и умения отличать правду от лжи у них явно нет.
Все это, к сожалению, можно сказать и о подавляющем большинстве образованных людей в России, мнение которых о либерализме, независимо от того, считают они себя его сторонниками или противниками, близки к воззрениям авторов Манифеста. Поэтому российскому обществу необходимо просвещение, то есть распространение, в частности, приведенных выше знаний о либерализме, в том числе и об указанных национальных особенностях его реализации в России, впервые проявившихся во времена Льва Сапеги и Ивана Грозного. Русский патриотический национальный либерализм возник давным-давно и благополучно существует, проявляясь, в частности, в некоторых традициях государственного управления в стране, чего значительная часть российского общества, к сожалению, пока не понимает. И основан он был не на западноевропейских либеральных представлениях периода зарождения капитализма, а на идеях, в частности, Аристотеля, Цицерона и христианства, на которые ссылались Лев Сапега и Иван Грозный.
Поэтому отсчет либерализма в России следует начинать с их эпохи Сапеги и Грозного. Такая точка отсчета отражает то, что принципы либерализма были описаны задолго до того, как они были сформулированы классическими либералами в Западной Европе, и либеральные представления пришли в Россию из античности и Восточной Римской империи задолго до появления представителей консервативного либерализма в России, более того эти представления воплощены в национальной системе государственного управления, сформированной в эпоху Сапеги-Грозного. Это факт, знание которого необходимо для понимания сути русской цивилизации. Есть и другие факты, которые будут рассмотрены в 19-й главе данной книги («Европейский фундамент русской цивилизации»).
Кроме того, надо понимать, повторим, что за описанными принципами либерализма стоят законы природы, которые определяли развитие общества и в библейские времена, и в античные, и в римскую эпоху, поэтому их можно найти в некотором виде и в Библии (на которую ссылался Грозный), и у античных философов, на которых ссылался Сапега. Эти законы определяют развитие России и сейчас, как, впрочем, и всей современной цивилизации. И за тысячелетия эти законы ничуть не изменились, стали другими только форма их проявления в изменившихся условиях, а также их описания в различных теориях.
Глава 3. Что будет с Россией после СВО?
Отсутствие понимания разницы между свободой и вседозволенностью, а также необходимости подготовки человека к жизни в условиях свободы чревато весьма негативными последствиями: существует значительный риск того, что все достижения, которых Россия добьется в результате специальной военной операции на Украине, будут со временем потеряны, и страна сама через некоторое время откажется от них.
Многие люди опасаются подобного развития событий. Например, писатель Владимир Саяпин в статье «Россия обречена на провал: можно ли предотвратить неизбежное» отметил, что «Оппозиционная мысль в нашей стране – это полный мрак. На настоящие проблемы никто не обращает внимания, хотя именно это и должна делать оппозиция», в то время как, по его мнению, «… прямо на наших с вами глазах Россия совершает сегодня непоправимую ошибку!».
3.1. Мнение писателя: Россия победит, но плодами победы много-много лет спустя пользоваться откажется
Ошибка состоит, по его мнению, в том, что «Мы сегодня боремся с Западом. Так? Хорошо. А какой смысл? Ведь мы же превращаемся ровно в то, с чем пытаемся бороться». По его мнению, «всё, с чем мы пытаемся бороться – это же результат развития капиталистической системы, которая сегодня развивается и у нас! Западу мы надаём по самые звёздочки, так что он потом на ленточки разойдётся – это непременно и без вариантов. А что дальше будет? А дальше начнётся развитие мирного времени. И приведёт оно к тому, что все те же самые проблемы начнутся уже у нас в стране».
По мнению Владимира Саяпина, в стране сформируется «Власть шутов», и если сегодня в России всем управляют люди, которые так или иначе болеют за судьбу страны, то завтра власть перейдёт уже к другим людям, и со временем управлять страной начнут те, кто имеет весьма слабое представление о том, что такое логика, философия и вообще мысль.
Писатель считает, что до спецоперации в России были популярны артисты, певцы, комики, которые стали таковыми, так как больше всего денег на увеселения тратят дети, которые выбирают не самый лучший продукт, не самый сложный, не самый развивающий. И он считает, что «Эти люди – это продукт капиталистической системы. За их творчество платят дети и враги государства. Достаточно посмотреть на бежавших, можно легко понять, за кого дети платили, а за кого враги. И если бы не события за забором, то все эти люди жили бы здесь и рассказывали нам с вами, как тут всё отвратительно, в стране, которая сделала их богатыми и знаменитыми».
Писатель полагает, что и при отсутствии таких врагов эволюция продолжается в том же духе, со временем дети вырастают, но им на смену приходят другие дети, в результате, творчество мельчает, а лидеры этого творчества становятся лидерами мнений. Поэтому со временем в стране народной волей будут выбраны политики типа тех, кого бы выбрали сейчас сбежавшие из России граждане.
По мнению писателя, это неизбежная эволюция любой капиталистической системы: мир деградирует. Он считает, что предотвратить такое развитие событий можно, для чего требуется переходить к другой системе, а Владимир Путин придумал изящный и хитрый план: «Ничего не делать!». Хитрость президента заключается в том, чтобы ждать, когда «трупы врагов проплывут мимо». Данная стратегия, считает Владимир Саяпин, приведет к победе, так как «Развитие технологий неизбежно приведёт к тому, что мир перестроится на новый лад. Сегодня нам бесполезно рассуждать о том, что лучше – капитализм, социализм или что-либо ещё. Мы просто живём и развиваемся». Под развитием технологий писатель понимает развитие искусственного интеллекта.
Поэтому Владимир Саяпин полагает, что «Нам нужно работать и наслаждаться жизнью, жить и строить будущее, развиваться самим и делать всё, чтобы люди вокруг нас развивались. – Так что пока наш противник нас яростно ненавидит, мы с вами будем спокойно работать над будущим, уступать друг другу проход и без причины помогать. Потому что вот это и есть единственный способ сделать мир вокруг лучше, и сделать его лучше прямо сейчас».
3.2. Неизбежность кризиса кроется в природе человека
Владимир Саяпин сделал целый ряд правильных утверждений, хотя почему-то не отметил, что не он первый задумался над указанными проблемами, не он первый их обнаружил и предложил способы решения. В частности, в связи с идеей о том, что развитие технологий приведет к неизбежному улучшению мира, можно упомянуть, например, изобретенный в конце 19 века Хайремом Стивенсом Максимом пулемет, который, как думали тогда некоторые эксперты, сделает войны невозможными. Но они стали только смертоноснее. Так и искусственный интеллект – сам по себе он скорее угробит человечество, чем улучшит его. Военные дроны с ИИ уже вовсю летают, а улучшения нравов или госуправления что-то не видно.
Кроме того, Владимир Саяпин только отчасти прав насчет оппозиционной мысли, назвав ее мраком, так как надо иметь в виду, что в России существует две оппозиции государственной власти. Одна – это открытая антипутинская прозападная оппозиция, которую обычно называют либеральной или неолиберальной, хотя на самом деле она является псевдолиберальной (либералы там поддельные), так как предлагает введение вседозволенности сильных и богатых вместо свободы. Это действительно мрак. Но есть еще и патриотическая оппозиция, которая расходится с президентом, в основном, в экономической сфере, и представлена, в частности, вполне солидными официальными политическими структурами – ЛДПР и партией «Справедливая Россия – За правду», да и коммунистами. У патриотической оппозиции хорошие мысли насчет государственного управления и экономики имеются.
Тем не менее, писатель прав в том, что, когда наступит мир, власть в стране, скорее всего, начнет деградировать, и со временем может перейти к людям, не настроенным продолжать курс Владимира Путина и его команды, более того, виновны в этом, действительно, будут народные массы, которые выбирают в качестве лидеров мнений людей, скажем так, не самых лучших.
Подобное постоянно происходило с самыми разными странами, причем вне связи с капитализмом и детьми. Деградация общества имела место и в других экономических формациях, и взрослые были ничуть не лучше детей. Первое исторически зафиксированное явление подобного рода – это, пожалуй, история исхода евреев из Египта. Царь Моисей принес евреям каменные скрижали с заповедями, по которым они должны были строить свою жизнь. Но когда после этого он ушел пообщаться с Богом, вполне взрослые евреи позабыли про эти заповеди, сделали себе золотого идола, стали ему поклоняться, петь и танцевать. Капитализма тогда не было и в помине.
Второй пример – это древнегреческая демократия, которая выродилась, так как по мере увеличения числа людей, которые имели право голоса, власть стали получать так называемые демагоги, которые побеждали на выборах, обещая все что угодно, но не собираясь выполнять обещанное.
Подобное поведение людей и деградация общества объясняется не капитализмом, а природными качествами людей, в частности, тем, что люди вообще думать не особо любят (разгадывание кроссвордов не в счет). Это и проявляется в процессе демократических выборов, когда, в частности, лидерами мнений становятся люди, которые добились каких-то достижений в самых разных сферах деятельности, а не те, которые лучше разбираются в происходящих в экономике и политике процессах.
Советский и российский логик, философ и писатель Александр Зиновьев об этом явлении написал в книге «На пути к сверхобществу» следующее: «Обывательские представления о социальных объектах имеют ничтожно мало общего с их научным пониманием. Тем не менее гигантское число дилетантов высказывается о них, сочиняет бесчисленные книги и статьи. … Чуть ли не каждый мало-мальски образованный человек считает себя специалистом в понимании явлений своего общества только на том основании, что он имеет какой-то опыт жизни в нем и кое-что знает о нем. Такие дилетанты воображают, будто нет ничего проще, чем понимание явлений, которые они видят своими глазами, среди которых они живут, в которых принимают участие и которые сами творят. А те из них, кто занимает высокое положение в обществе, известен и имеет возможность публичных выступлений, считают себя и признаются другими за высших экспертов в сфере социальных явлений. Люди верят президентам, министрам, королям, знаменитым актерам и даже спортсменам больше, чем профессионалам в исследовании социальных явлений, хотя эти высокопоставленные личности и знаменитости обычно несут несусветный вздор, …».
Чтобы отличить вздор от правды, надо напрягаться, рассуждать, получать новые знания и т. д. Это сложно. Психологи из канадского Университета Макгилла и нидерландского университета Радбуда недавно пришли к выводу в результате специального исследования, что люди не любят выполнять сложные умственные задачи и прикладывают серьезные усилия, в основном, только тогда, когда выгоды перевешивают затраты (на мой взгляд, это и без исследований очевидно). То есть люди не любят думать, когда этот процесс требует от них какого-либо серьезного напряжения. И их, как советуют авторы исследований, для этого следует хорошо стимулировать. Это закон природы – так устроен мир.
Важно, что данная черта свойственна представителям всех слоев общества, в том числе и деловым людям. Торстейн Веблен в книге «Теория делового предприятия» написал, что «… недальновидность и недостаточное умение проникать в суть проблемы, выходящей за рамки традиционной рутины, похоже, являются общими чертами класса лиц, вовлеченных в широкомасштабную торгово-промышленную деятельность».
Подчеркнем, эти слова относятся не к рабочему классу, пенсионерам, маргиналам или детям, а к капиталистам – тем людям, которых псевдолиберальные идеологи называют способными, талантливыми, предусмотрительными и удачливыми. Конечно, перечисленные позитивные качества, без сомнения, присущи многим бизнесменам, но это наблюдается в их бизнесе, что не мешает им одновременно быть по целому ряду вопросов, выходящих за рамки их дела, недальновидными и неспособными проникать в суть проблем.
Из-за указанного природного качества людей, серьезно оценивать программы политиков мало кто пытается, что позволяет демагогам приобретать сторонников на демократических выборах, и приводит к деградации демократически избираемой власти, если она не принимает специальных мер, направленных против демагогов. Один из таких инструментов – это политическая система с партиями, которые отсеивают демагогов в самом начале их карьеры, хотя и не всегда с этим справляются. К тому же, в настоящее время, эта система в западных странах деградировала (о чем будет подробнее написано в других главах данной книги).
Таким образом, мнение Владимира Саяпина о причинах деградации власти ошибочно. Как и мнение о том, что Владимир Путин ничего не делает для того, чтобы снизить риск деградации общества в будущем. Делает. Можно, в частности, отметить проект «Лидеры России» по подготовке энергичных, патриотично настроенных, способных и честных руководителей высшего уровня, а также новый проект такого же рода – кадровую программу для участников СВО – «Время героев», в рамках которой идет подготовка нового класса чиновников. И майские указы, национальные проекты – это тоже попытка изменить ситуацию в российской экономике. Другое дело, что правительство и Банк России толком эти указы не выполняют, но и тут Владимир Путин не бездействует, и постепенно переключает управление финансами и экономикой лично на себя. Например, 19 декабря 2024 года в своем обращении к народу он дал дружеский совет ЦБ перестать повышать ключевую ставку, который как будто был тут же услышан, и 20 декабря банк не стал ее увеличивать. При этом Владимир Путин сохраняет доверие к руководству ЦБ, и на Восточном экономическом форуме в сентябре 2025 года он назвал профессиональными действия правительства и ЦБ в отношении инфляции.
Владимир Саяпин считает, что развитие технологий приведет к тому, что будущий кризис разрешится сам. Это близко к представлениям марксистской теории развития общества посредством смены общественно-экономических формаций по мере развития производительных сил.
Несколько по-другому трактуется развитие общества в рамках институциональной экономической теории, согласно которой, говоря упрощенно, оно происходит посредством естественного отбора правил поведения человека (экономических институций) и общественных институтов, формирующих данные институции. Такого рода эволюцию рассмотрел, в частности, Торстейн Веблен в опубликованной в 1899 году книге «Теория праздного класса. Экономическое изучение институций».
Владимир Саяпин считает, что так как развитие технологий неизбежно приведёт к тому, что мир перестроится на новый лад, сегодня бесполезно рассуждать о том, что лучше – капитализм, социализм или что-либо ещё, надо только уступать друг другу, без причины помогать, и т. д. Но естественный отбор в ходе эволюции человеческого общества осуществляется не так. Выживает не тот, кто ничего не делает и всем уступает, а тот, кто делает именно то, что должно, в данный момент, то есть то, что соответствует законам природы, определяющим развитие цивилизации.
Например, царь иудейский Моисей после первой неудачной попытки обучить евреев правилам цивилизованной жизни, предпринял вторую. Он уничтожил золотого тельца и в дополнение к заповедям создал специальный общественный институт – церковь, более того организовал его финансирование посредством введения специального налога.
В России события в настоящее время развиваются примерно по такому же сценарию. Владимир Путин стремится сформировать систему государственного управления, направленную на служение государству и обществу, но существуют значительные риски того, что после того, как он оставит свой пост президента, она начнет деградировать (золотой телец, танцы, песни …). Тут Владимир Саяпин, пожалуй, прав. В пользу подобного развития событий указывает полный хаос, который царит в головах многих представителей российского общества, на что указал, в частности, Александр Зиновьев.
Чтобы этого не произошло, требуется сформировать какие-то институции и институты, как это когда-то сделал Моисей. Это проблема, решением которой надо заниматься. Достаточно ли для этого тех шагов, которые предпринимает Владимир Путин? Вот в чем вопрос.
Глава 4. Беды современной России – не дураки и дороги, а дилетантизм профессионалов
Хаос в головах дилетантов, отмеченный Александром Зиновьевым, это только одна беда. Вторая беда в том, что примерно такая же ситуация сложилась и в головах специалистов – профессионалов в исследовании социальных и экономических явлений. То есть, развитию России в настоящее время мешают две беды, но это вовсе не дураки и дороги. Повторим, во-первых, это дилетантизм умных и образованных людей, получивших техническое и естественно-научное образование, которые уверены в том, что они хорошо разбираются в экономике, социологии и политике, и, во-вторых, это дилетантизм профессионалов – специалистов в сфере гуманитарного знания, большинство из которых не владеет научным способом мышления, и чьи знания по экономике, социологии и политике довольно часто далеки от научных.
Проблема, связанная с наличием в обществе огромного количества умных и образованных дилетантов, несущих с авторитетным видом всякую чушь, хорошо известна, в частности, она была описана не только Александром Зиновьевым, но и задолго до него испанским философом Ортегой-И-Гассетом в книге «Восстание масс». В главе XII «Варварство «специализма», он описал тип диковинного «нового человека», которого он назвал «сведущим невеждой». Это узкий специалист, «человек науки», который свою порцию мироздания знает назубок, поэтому к любому делу, в котором не смыслит, подходит не как невежда, а с дерзкой самонадеянностью человека, знающего себе цену. Как отметил Ортега-И-Гассет, «В политике, в искусстве, в общественных и других науках он способен выказать первобытное невежество, но выкажет он его веско, самоуверенно и – самое парадоксальное – ни во что не ставя специалистов».
4.1. Профессионалы не лучше дилетантов
Александр Зиновьев и Ортега-И-Гассет не объяснили, как и почему возникли такие новые люди – сведущие невежды. Но если разобраться, то окажется, что у этого явления имеется вполне объективная, более того, уважительная причина. Дело в том, что специалисты и профессионалы в сфере экономической теории, политологии и социологии очень часто, как и дилетанты, не разбираются в этих предметах. Этот факт описал Александр Зиновьев следующим образом: «… надо различать науку как сферу жизнедеятельности множества людей, добывающих себе жизненные блага и добивающихся жизненного успеха (известности, степеней, званий, наград) за счёт профессионального изучения социальных объектов, и научный подход к этим объектам. Лишь для ничтожной части этих профессионалов научное познание есть самоцель. Научный подход к социальным объектам составляет лишь ничтожную долю в колоссальной продукции сферы профессиональных социальных исследований».