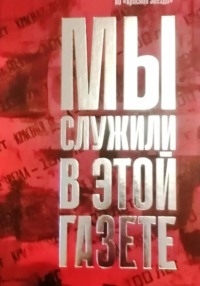Полная версия
За семгой
Поскольку снега выпало много, и нож снегоочистителя поднимало, на передок мотовоза положили несколько тяжелых двутавровых балок. На них безмятежно сидели не поступившие в Политехнический институт и оставшиеся на год работать при нем ребята. Столкновение оказалось столь внезапным, что отец не успел ничего предпринять. Неожиданно возник впереди темный силуэт. И то его успел заметить только главный кондуктор Петр Плохих, находившийся на тормозной площадке первой из двух платформ, прицепленных впереди тепловоза. Мощный удар, от которого содрогнулся тепловоз – и отец увидел в воздухе барьер тормозной площадке, на который опирался Плохих.
Ни один водитель, ни один машинист, попавший в аварию, не в состоянии сразу определить – виноват ли он или нет. И уже сама эта неуверенность потрясает. Еще прежде, чем осознается все остальное.
Соскочив с тепловоза, отец не услышал криков или стонов. Бросился вперед и увидел Плохих, валявшегося в снегу.
– Что с тобой? – вскликнул отец.
– Со мной, ладно. Смотри туда…
Отец глянул и увидел распростертые тела людей. Он подбежал, поднял первого и понес в будку тепловоза. Помощник машиниста Коля Писарев подхватил другого.
Пятерых раненых перенесли они на тепловоз. Быстро оказали первую помощь: наложили жгуты. Отцепили первую платформу, соскочившую с подшипников. Отец невольно подивился, как же оказался жив Плохих, когда из-под него вырвало и отбросило стальной барьер тормозной площадки.
Тронулись назад, на станцию. Пол в тепловозной будке был залит кровью. Стало невозможно по нему ходить.
Домой он приехал таким мрачным, каким никто из нас его еще никогда не видел.
Более всего отца потрясло то, что пострадали молодые ребята, будущие инженеры. Ему в жизни довелось окончить нормально только первый класс. Их большая семья рано осталась без отца. Всю остальную школу прошел самостоятельно, в конце концов, сдав экстерном за десятилетку. И никогда ничего так не жалел, как-то, что не пришлось толком учиться. А если приходилось на каких-нибудь курсах, классах заниматься – все оканчивал с отличием. И первое, что мне было вдолблено, внушено самым твердым образом с детских лет – представление, что жить – это значит учиться.
– Из них бы получились хорошие инженеры, – говорил отец. – Настойчивые ребята. Не поступили, но не сдались.
В его представлении в этом была особая горечь потери. Несправедливость такой утраты (двое из пятерых ребят умерли) не укладывалась у него в голове. Как и тогда, осенью 1941-го в Белоострове. Молоденькие моряки, не знавшие опыта боев, оказались подготовленнее к нему, чем те кадровые батальоны, что отдали Белоостров и никак не могли вернуть? Юные курсанты оказались более подготовленными потому, что весь флотский уклад, которым они жили, та школа высшего военно-морского училища, которой они начали овладевать, уже сумели сформировать в них главное: непреложную готовность выполнить поставленную задачу. Любой ценой.
– Сколько же полегло здесь будущих офицеров, – опять неутешно вспомнил отец, когда машина катила по Белоострову.
Мы ехали с отцом дорогой в наше семейное прошлое. Мы ехали по ней вместе впервые и, что уж лукавить, наверное, в последний раз. И соединила нас в этом опять же мать, как тогда, в 1943-м соединила нас моим рождением.
Никогда ни к чему в прошлом не тянуло меня так, как именно к рождению. Видимо, чем дальше, тем больше должны мы благодарить ту величайшую для нас в природе случайность, что родились на свет именно мы. Воистину рождение человека, его жизнь – суть одних случайностей, и только смерть его закономерна. Чем больше об этом думаешь, тем больше потрясает та необъятность случайностей, которая проложила нам жизнь.
В июле 1941-го за Выборгом, около станции Яски отец наступил на мину – и в последний миг до взрыва понял, что останется жить. Противопехотная мина на каменистом карельском грунте была и замаскирована соответствующим образом: за большим камнем. На него и ступил правой ногой отец. Ступил, перенес тяжесть, камень наклонился – и это решило все: сила взрыва пошла не просто вверх, а в сторону. Отделавшись небольшой контузией, отец остался цел и невредим.
В этом же 1941 году он попал под минометный обстрел, который финны затеяли ради него. На открытом, голом пригорочке, через который он хаживал не раз в тыловое подразделение, вдруг его обнаружили минометчики врага. Первая мина застала врасплох. Отвратительно-сипящий свист – и взрыв метрах в десяти. Полет второй он уже "наблюдал" лежа. От третей успел отползти. Ротный миномет, бил без перерывов. Стрелявших, видимо, злила неуязвимость русского. На каменистом грунте хватило бы первой же мины, а этот пригорочек оказался мягким, болотистым и легко мины поглотал, прежде чем те успевали взорваться. Необходимо было почти прямое попадание. Отец понимал, что оно будет. До единственного укрытия – одинокого сарая, к которому он стремился, оставалось метров 20. Но их было не преодолеть.
Отец замер. Обстрел прекратился. Едва он поднял голову, в небе раздался визг. Охота, видимо, начала забавлять минометчиков. Они не торопили события и не жалели мин. Отец же раздумывал, как достичь сарая. Он должен был обмануть этих расчетливых финнов. Долго лежал неподвижно, выждав два или три близких разрыва, и вдруг вскочив, в несколько прыжков оказался за сараем.
Эти истории отец рассказывал не единожды. Точно, обстоятельно, с психологическими деталями. Но, чтобы он начал рассказывать, его надо было "завести", эмоционально задеть. «А помнишь, ты со страху в канаву нырнул?» – пытаюсь я еще раз услышать от него о другом случае уклонения от верной смерти.
– Со страху?! – возмущался отец.– Посмотрел бы я на тебя!
А я думаю, что это была еще одна счастливая случайность, благодаря которой жив он, есть я, и сегодня происходит этот разговор.
– Приехал мокрый с ног до головы, – охотно подхватывает наш разговор мать, – Вань, говорю, ты что-то рано купаться нынче начал. А он в молодости был горячий, злой, капризный… – мать невольно отвлекается. – Сколько уж натерпелась с его тяжелым характером. Если бы не дети, часу с ним жить не стала…
Отец спокойно-сдержанно выслушивает укор, сознавая его справедливость и довольствуясь тем, что с тех пор он много изменился, стал совсем другим.
Но другим он, конечно, не стал. Просто смягчился, постарел, помудрел, но по-прежнему жива эмоциональная необузданность, безоглядная порывистость. Помню из детства, как однажды, бурно среагировав на замечание матери, он разом перевернул большой праздничный стол, и гости бросились врассыпную. Сейчас он в порыве гнева и по столу толком не стукнет, разве что гаркнет на обозлившего так, что вздрогнут все окружающие.
Долго я стеснялся этой несдержанности отца. Мать называла ее деревенской серостью, дикостью. Все, конечно, так, но стоял за этим могучий, цельный характер, отрицающий компромиссы там, где не допускала душа. Носить такой характер в чистом виде тяжело: очень уж неудобен он в человеческих контактах. Зато бесценен как здоровый генетический материал, дающий потомкам крепкий внутренний стержень. И мы, трое его детей: два брата и младшая сестра, чем дальше, тем больше переставали замечать отцовские недостатки, которые суть плохой одежки души (недостаток образования, воспитания) и все более признавали в нем глыбистость характера, силу ума, которая и в тесных рамках приземленного бытия все-таки всегда находила возможность блеснуть.
Своих друзей, среди которых уже немало адмиралов, я бывая в Ленинграде, непременно возил в Дибуны – показать отца. Он по простоте душевной (хитрости, тонкости ему всегда недоставало) этого не замечал и тем большее производил впечатление. Истории свои рассказывал тоже, не замечая, что это организовано мною. Просто его надо задеть за живое, он тут же распалится и, переживая все заново, словно окунет себя самого в то, что было десять, двадцать, сорок лет назад.
– Со страху, говоришь? – уже успокоено и назидательно повторяет он. – Страха я никогда не стеснялся, если уж такое случалось. А здесь и страха-то не успел испытать.
Еду на велосипеде по Дибунам к станции, там, где сейчас новый продовольственный магазин. Навстречу мальчонка бежит. А на станцию только что поезд пассажирский пришел. Вдруг сверху, сбоку свист: снаряд. Будто что-то толкнуло внутри – и я с ходу, не тормознув, нырнул в канаву с водой. Тут же взрыв. Из воды выбрался – воронка как раз посреди дороги. Поискал мальчишку – даже схоронить ничего не нашел. Загорелись вагоны состава. По нему били финны. Досталось поезду здорово. Машинист не смог его вывести со станции по нелепой случайности. Одним из первых снарядов повалило на рельсы семафор. Ну а мне еще разок повезло.
И вот так до моего рождения, когда везло отцу, везло нам обоим. А после рождения стало везти порознь, и только со временем пришло понимание, что по-прежнему везло вместе.
До войны, а вернее, до службы в армии, отец был женат. У него рос сын. Но даже не встреть отец хозяйку дома с баней в Дибунах, в 1942 году, вряд ли вернулся бы он к прежней семье. Сейчас это называют психологической несовместимостью, чуть раньше – не сошлись характерами, а тогда еще по-старинке: жена строптивая досталась. Строптивая или нет – трудно сказать, но то, что характер отца принять могла не всякая – это точно. Соседки всю жизнь завидовали матери, чего, мол, с таким-то не жить: мужик видный, мастеровой, хозяйственный, не пьет, по бабам не шастает… Но самое любопытное, – ни одна из соседок ужиться бы с Иваном Сергеевичем Быстровым не смогла. Мать же со своим твердым, последовательным характером, но в то же время очень гибким, дипломатичным, вроде бы уступчивым нравом, словно была создана для отца. И вся предшествующая ее жизнь, словно готовила ее к этому. Сирота с 8 лет, с тринадцати – в домработницах, она привыкла, научилась угождать, потакать, приспосабливаться. Но в то же время какие-то свои ценности, которые, может быть, никогда не смогла бы отчетливо назвать, кроме как "я тоже человек" (и за этим стояли обостренное чувство гордости, собственного достоинства), оберегала в себе неотступно. Отцовская сокрушительность, необузданность с материнской уступчивой твердостью сошлись, как меч с ножнами. И такие непохожие, но очень нужные, дополняющие друг друга, ладно прожили всю жизнь.
Если отцу удалось окончить один класс, то мать так и осталась безграмотной, если не считать умение едва писать да считать. (Ну а считать, благодаря деньгам, умеют все люди на земле). Отец же не только был к моменту их встречи достаточно грамотен, но и вовсю писал стихи. И вопреки своему характеру, но в соответствии с интеллектом, скорее рациональные, чем эмоциональные, скорее философские, чем лирические. Как-то, в первые месяцы знакомства, не сумев выбраться не свидание, отец послал в Дибуны подчиненного с запиской.
Мать записку взяла, посмотрела, поблагодарила и опять сложила.
– Товарищ старшина просил ему ответить,– пояснил красноармеец.
– Вы знаете, – смутилась мать, – у меня очки где-то затерялись, а без них я не прочту.
– А как же приказание старшины?– красноармеец без ответа уходить не собирался.
– Тогда прочтите вы, а я передам на словах, – нашлась мать, рискнув, конечно, разгласить интимность переписки.
Впоследствии, если случалось, что отец уезжал, мать просила читать его письма соседок, ссылаясь на неразборчивый почерк. А он таков и был при хорошем, естественном стиле изложения. В мыслях же, чувствах, переживаниях
мать была несравненно тоньше отца. И несколько подсмеивалась над отцом, его неуклюжей простодушностью. Отец этого так и не научился замечать, а если вдруг обнаруживал (правда, уже со стороны нас, детей, не обладающих материнским изяществом), то зверел и некоторое время относился подозрительно ко всем окружающим.
Мать легко вступала в контакты с любыми людьми, неся обаяние естественности, проявляя и здесь тонкую дипломатичность, гибкость. Отец либо стеснялся вступать во взаимоотношения с людьми, либо вел их сразу бескомпромиссно, прямолинейно и наступательно. От этого семья чаще всего страдала, и исправлять ошибки отца приходилось матери.
Патриотические фильмы расслабляли отца до слез. "Подвиг разведчика" стал для него шедевром на всю жизнь. Мать воспринимала подобное со сдержанным волнением и расслаблялась душой, наслаждаясь тихо, даже как-то извинительно, смотря балет или слушая оперу. Попасть в театр на балет или оперу для нее было недосягаемой радостью: четверо детей, вечные домашние дела, потом внуки держали ее дома, психологически поработив. Но все-таки нет-нет да мы устраивали ей такой праздник. При этом она всегда вела долгую подготовительную работу с отцом, в какой раз напоминая, как в пятидесятые годы в Кировском театре на опере "Борис Годунов" он захрапел и опозорил ее на всю жизнь.
– Что я виноват, – улыбался простодушно отец, – что в твоей классической музыке разбираюсь, как свинья в апельсиновых корках. В театре мое место – в буфете.
Мать поджимала губы.
– Был ты, Ваня, серым, таким и умрешь.
Зато отец мог легко решить математическую задачку в рамках десятилетки, постоянно помогая старшей сестре, лишенной в отличие от нас – Быстровых – математических способностей. Все естественные науки его живо интересовали, он за ними следил, любил читать журналы. И не было такой вещи от двигателя внутреннего сгорания до телевизора, в которой бы он не разобрался и не починил. «Наш, Быстров!» – говорил он с гордостью, а то и со слезой на глазах, замечая эти качества у внуков.
И внуки не догадываются, слушая похвалы деда, что их существование было на волоске множество раз еще до появления их родителей. Наверное, никогда об этом и не задумываются. И, видимо, думать об этом противоестественно, как останавливаться в движении. В том, что есть – жизнь. Даже попытка остановки оказывает на психику человека обвальное, удручающее воздействие. Восторженное "Остановись, мгновенье, ты прекрасно!" на самом деле глубоко драматично. Это понимал великий Пушкин. Здесь наше бессилие: если в целом о возможностях человека можно поспорить, то здесь спорить не о чем. Мы бессильны остановиться, остановить, тем более, что-то вернуть.
Тоска о прошлом, об улетающем, о безвозвратном – лирическая, легкая, индивидуальная, на самом деле – глубинно-философская, общечеловеческая: о конечности наших возможностей в этом бесконечном мире.
Недаром так никто и не сумел классически ответить на искусственно созданный человеком вопрос: что, если бы жизнь давалась дважды, или, если бы начать все сначала. Та цепь случайностей нашего появления, которая оказалась конкретным проявлением закономерности продолжения, развития человеческого рода так слаба, тонка, так незаметна для человечества вообще, как молекулы предметов, окружающих нас. Эту цепь невозможно повторить. Но чтобы оценить ее, ее стоит проследить.
Мать была уже беременна, когда тайное стало явным: она узнала, что полюбившейся ей спаситель-старшина имеет семью. Отец, в общем-то, и не думал особенно это скрывать, тем более, что скрывать или лгать никогда не умел. Поэтому, например, из-за мелкого жульничества кого-нибудь в "подкидного дурака" могла разразиться целая гроза. При этом отец возмущенно заявлял:
– Вы что, думаете, я не умею шулерничать?! Не с такими, как вы, играл…
– Вань, успокойся, – урезонивала его мать, – ну как не стыдно. Дачники вон все слышат.
– Ну и пусть слышат, – клокотал отец. – Надо головой работать, а не искать легких путей. Я ведь себе не позволяю, хотя умею. Пожалуйста: буби – поднять глаза вверх, пики – высунуть язык…
И он демонстрировал шулерский код таким сверхвыразительным образом, что мы, не выдержав, впадали в хохот, еще более раззадоривая отца.
Короче говоря, старшина не только выложил хозяйке бани факт своей женатости, но и всю подноготную неполучившейся семейной жизни. Он ушел с облегченной душой в свой оборонительный район, даже не подумав, какую тяжесть сомнений переложил на маленькую, одинокую в этой блокаде женщину с шестилетней дочерью на руках.
Через мучительные размышления, долгие раздумья мать пришла к выводу, что надо делать аборт. Решила и стала готовить к этому отца. Он пытался сопротивляться, но ему ли было совладать с дипломатией, хитростью, вкрадчивой настойчивостью матери. И ведь был 1942 год, о прорыве блокады определенно говорили разве что в Ставке Верховного Главнокомандования. А близилась новая зима. И кто мог сказать, что она окажется легче прежней. В этих ли условиях вынашивать детей.
Добрый старичок-доктор Василий Иванович, в звании капитана, уже бывал в нашем доме. Следил за здоровьем матери, когда она почувствовала, что под сердцем появился я. Мать всегда была очень чувствительна к добрым, спокойным людям. Ее тонкая психика скреплялась под ласковым словом. Видимо, потому, что ей этого недоставало всю жизнь.
Василий Иванович в этот раз был не в духе. Мать, конечно, понимала свою вину. Недоброе дело она затеяла, запретное, и старик доктор должен взять на себя риск. Но не риска боялся Василий Иванович. Два года он провожал людей из этого мира по жестокому требованию войны. По чьему требованию, по какой необходимости предстояла ему теперь оборвать только что зародившуюся жизнь.
На нашей кухне, выходящей окнами на Запад, туда, где стоял отец, на плите булькала в тазике с инструментами вода. Мать расстелила простыни в маленькой комнате через коридор, в которой я потом долгие годы спал и где теперь у нас, после перестройки, кухня. Василий Иванович зашел в комнатку, сел на стул под старинным зеркалом. В него, разбирая для чистки пистолет, нечаянно выстрелил отец, но попал в раму и только расколол толстое шлифованное стекло.
– Ну вот, Панечка, у меня все готово. А ты как?
– Я тоже, Василий Иванович,– дрогнувшим голосом ответила мать.
– А я чувствую, Панечка, не совсем ты готова. Голосок выдает, или боишься?
Мать кивнула головой.
– Ты не бойся, я это мигом, осторожненько. Только вот надо ли, Панечка? Хорошо ли ты подумала? Если Ивана хочешь удержать, так с ребеночком вернее. А если и одна останешься – к дочери сынок будет. Вырастет, всю жизнь благодарить будет, что не побоялась, в блокаду родила.
Бурлила на кухне вода, говорил Василий Иванович, решалась моя судьба.
Отец пришел в роддом, что в соседнем поселке – Песочном, глянуть, кто родился.
– С сыном вас, Иван Сергеевич!– поздравила сестра.– Богатыря Паня родила. Пять двести. Это в блокаду-то.
Момент этот отец любит вспоминать.
– Ну, думаю, сейчас принесут красного, противного. Не нравятся мне дети сразу после рождения. А тут медсестра вынесла малыша – смотрю, чистый, белый, крепкий. И улыбнулся.
Младший брат как-то пошутил:
– Та улыбнулся один раз, а мы теперь должны тебе всю жизнь улыбаться.
В тот момент отец сказал: «Это мой сын, моя семья.» И это было сказано навсегда.
Дот-миллионщик так у финнов и не отбили. Пробовали его разбомбить, копали минную галерею, но все безрезультатно. Впрочем, это и не имело решающего значения. Во время наступления 1944 года его просто обошли. И финны сами подорвали его.
На этом участке Ленинградского фронта боев, как таковых, практически не было. Было противостояние. Изнуряющее ленинградцев, а потом и противника, и наконец – только противника. Лопнувшее 18 января 1943 года кольцо блокады, развалилось окончательно 27 января 1944 года. Даже «разлетелось», ибо подготовка к наступательной операций была столь основательной, что враг еще раз трагически убедился: советские войска изнуряющее обороняются и ошеломляюще наступают.
Накануне наступления артиллерия провела под Белоостровом-Сестрорецком тренировочную артподготовку в 15 минут. Отец находился на командном пункте командира роты на главенствующей высоте. Оттуда вся низина перед передним краем охватывалась взглядом. И вот вся эта низменность, как Бородинское поле, окуталось дымками выстрелов.
– Словно порох насыпали на горячую плиту,– вспоминал отец.
Огневая тренировка была столь неожиданной и в то же время мощной, что, сбитые с толку, некоторые пехотные части поднялись в атаку, и их пришлось возвращать назад.
Доты строились, чтобы остановить движение противника. В их зоне, в их полосе, словно незримо царил кровью начертанный знак "Движение запрещено". Тогда этого знака не существовало, но существовала его абстракция, выработанное во множестве войн понятие мертвой полосы. Она разделяла (с дотами и без них) все фронты. И побеждал не тот, кто отчаянно лез под этот "знак", а силой отменял его действие. Финны так и не смогли этого сделать. Отчаиваясь разве что на свойственные им дерзкие, коварные вылазки.
В связи с этим в мою судьбу влилась еще одна цепь случайностей. Я уже был. И у меня было собственное везение. Например, когда мать «доставала» за 150 рублей литр коровьего молока, а иначе приходилось сосать нажеванные ею и завязанные в марлечку галеты. Отчего у меня вокруг рта валиком засыхала во время сна хлебная корочка. Или когда отцу удавалось оборонить от дибуновских баб приготовленную для матери «делянку» с клюквой, морошкой.
В те времена под Дибунами в изобилии было все, что сейчас можно встретить только в заповедных угодьях какой-нибудь заполярной дыры. Грибы, морошка, клюква, черника, птица, зверь – в лесах, рыба, – в реках. Но даже при таком обилии бабы стремились попасть на запретные для гражданского населения места, туда, где «получше».
– Смотрю, – рассказывал отец, – а в моей морошке уже чужие платки кланяются. Мало им болота. Ну, думаю, сейчас я вас проучу. Ложусь за пулемет – и очередь им перед носами. А вскинулись – очередь сзади. Сдуло. И все-таки, не узрел как, обобрали, чертовки, ягоду.
Потом уже, когда начала свой отсчет моя память, как-то уж очень накрепко запечатлелась эта самая морошка. Пожалуй, самое первое, что отложилось навсегда. Мать ставит на большой продолговатый, обитый фанерой, наш семейный обеденный стол корзину. Осторожно наклоняет ее – и с мягким шорохом сыпятся через край белые с розовым зернистые ягоды, каждая с жестким воротничком плодоножки. Мать их аккуратным слоем разравнивает по столу и уводит меня от соблазна, так и не дав сунуть хоть одну ягоду в жадный рот… И снова этот же стол (видимо» дня через два). Нет, сначала комната. Комната с густым, необычайной вкусноты воздухом. Он поднимается от того, что было ягодами, а стало булькающим в тысячах ягодных оболочек крупинок солнца. Оно едва держится за прозрачными пленочками – и пахнет, пахнет, пахнет запахом, который нельзя назвать, потому что ничего схожего в мире нет. Мне казалось – это запах солнца, запах жизни.
…Да, с самых пеленок у меня было везение. Потому что жизнь была очень уж негарантированной, а в такой без везения нельзя. И одно из редчайших для нашего поколения – наличие отца.
Финны не штурмовали, не атаковали. Они делали вылазки. Бесшумные, молниеносные, кровавые. Они не брали ничего с собой, кроме ножей. Конечно, финских, ведь в руках финнов любой нож становился финским. Это их легендарное, историческое оружие, столь же национальное по происхождению, как американская атомная бомба или наш крылатые ракеты. Тихо подбираясь к землянкам, они снимали часовых, а потом вырезали всех спящих. Именно это обнаженно-натуралистическое слово «вырезали» употребляли тогда на фронте. Оно пугало, а значит, настораживало. И был в нем еще один скрытый и страшный смысл: ведь порой умерщвлялся ножом не один человек, а вырезался весь его будущий род, остановившийся в своем развитии на спящем солдатике.
Отец уже командовал взводом. Был заботлив, хозяйственен,
жесток, въедлив, слишком рьяно стремился к правде, а потому
до справедливости не всегда добирал. Его уважали, побаивались
и не всегда любили. Как, в общем-то (кроме нас, детей) и впоследствии.
Отец большое внимание уделял ночным караулам. Для врага гарнизоны дотов, отдыхающие в землянках, были очень притягательны. Но страдали от вылазок пока только пехотинцы, чьи передовые позиции были несколько впереди. В последний раз лазутчики проникли к соседям в землянку и уничтожили 22 человека. Ни один даже не вскрикнул. У каждого оказалось по одной ране: в шее, под ухом. Холодно, спокойно, не зверствуя, но по-зверски жестоко "работали" мастера финского ножа. Как тот беспалый скотобоец, по заказу резавший домашний скот. Сколько их было – определить точно не удавалось: может быть десять, а скорее и того меньше.
Такие случай были, конечно, чрезвычайными происшествиями. Командиры, если оставались живы, шли под трибунал. Отец
определил себе нормой проверять ночью караул несколько раз. И
делал это продуманно, изобретательно, стремясь имитировать ситуации, какие мог бы создать враг. Только для одного бойца никакие ухищрения не требовались – рядового Суханова. Разгильдяй, вороватый и скользкий, с нагловатыми, навыкате, глазами, услужливыми повадками, он вообще не нравился командиру взвода, а уж если что-то ему поручалось, надо было следить и следить. На посту он не раз засыпал. Наказания впрок не шли.