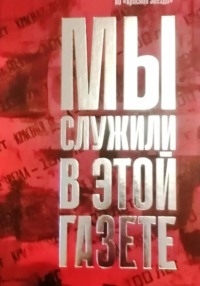Полная версия
За семгой

Сергей Быстров
За семгой
ЗА СЕМГОЙ
Суло толкнул дверь. Мужики в домике даже не оглянулись. Один из них – дед с интеллигентным, хоть и небритым лицом, скромно зажав руки между колен, сидел на грубых нарах, подернутых тоненьким матрацем. Двое других: молодой парень и пожилой с черной бородой в очках смотрели в цинковое ведро, взгроможденное на самодельное подобие стола.
Суло вошел, не здороваясь – здесь этого не требовалось.
– Вы что помои-то на стол поставили? – спросил без особого интереса.
Пожилой мужик в очках недоуменно глянул на вошедшего, но ответил обстоятельно, без раздражения:
– Не помои это – косорыловка. На, попробуй.
Очкастый зачерпнул кружкой жидкость, обходя плавающие ошметья – то ли хлебных корок, то ли еще чего, и протянул Суло.
Тот нюхнул издалека, скривился и сел на нары рядом с
интеллигентным дедом.
– Отравитесь к чертовой матери!
– Скажешь тож, – с усмехом дернул головой очкастый. Дунул в кружку, смахнув желтую пену на пол, и с расстановкой осушил.
– Слаба еще, – не одобрил он брагу и, зачерпнув, передал кружку интеллигентному, – отведай, Семенович.
Семенович взял осторожно, выпил незаметно, вежливо передал кружку парню.
– Не побрезгуй, Юрок.
– Че брезговать-то? – Юрок с жадностью нырнул в ведро. – Внутрях горит. Счас полегчает.
Суло внимательно глянул на молодого и узнал.
– Дворников?
– Дворников,– удивился тот.
Пожилой в очках почесал черную бороду, видимо, недовольный заминкой. Разговор его мало интересовал. Он только что пешком притопал по морозу аж из Кашкаранцев, что будет километров пятнадцать, и замерзшая душа жаждала согреться. Хоть в домике деда Семеновича и было тепло от беспрерывно шумевшей огнем буржуйки. Но истинный холод можно снять только изнутри.
Вообще-то всерьез погреться у геологов пожилой в очках не рассчитывал. Знал, что они уже уехали. Зашел на дымок одного из домиков и неожиданно встретил пасынка Юрку, который еще два дня назад уехал к себе на тоню, да, стало быть, не доехал. Юрка был с похмелья. Он-то и обнаружил в одном из оставленных домиков ведро недобродившей косорыловки.
Юрка Дворников чуть удивился, что его признал этот незнакомый парень из тех четверых, что приехали на уазике вчера вечером.
Суло снял вязаную спортивную шапочку, обнажав обширную лысину, и облизал обветренные губы.
– Брата твоего, Михаила, хорошо знаю. Приезжал четыре года назад, познакомились. И тебя мельком видел. Да еще приятеля мишкинова – Витьку Хорина. Подлец. Рыбнадзор на нас навел. Ружья бельгийского лишился, спальника мехового, канадки… Встретится – будет о чем поговорить.
– Встретится,– равнодушно с похмелья кивнул Юрка.
Однако тут же примолк, вспомнив, что Витька – его старший напарник по тоне, отпустив его на два дня в Кашкаранцы, уже, видно, от злости не знает, куда себя деть. План и так стоит: семга нынче сдурела, идет только в Варзугу – и все. Чуть подальше от Варзуги – считай пусто. Все тони понапрасну сети ставят да тягают, тогда как обычно в октябре везде Терский берег имеет улов. Сейчас его Витька встретит – только держись. Может пугануть его этим парнем. Точно струхнет. Мишка-то рассказывал, как тогда рыбнадзор городских тряхнул. Поймать, правда, не сумели, а вот барахлишко небедное реквизировали.
– А где Мишка-то нынче? В гости к нему заглянуть думал, – Суло с неодобрением смотрел, как Юрок зачерпывает вторую кружку.
– В гости нынче к нему не попадешь. Далековато. Химию строит, – срок отбывает.
– За что?
– За что? – Юрок чуть задумался, посмотрел на отчима.
Тот тер бороду и смолил дешевую сигарету.
Интеллигентный дед Семенович скромно слушал, от второй кружки косорыловки отказавшись и, видимо, тихо довольствуясь новым разговором между новыми людьми, которые так редко случались здесь, на северном берегу Белого моря. Ибо даже летом здесь скорее встретишь на побережье медведя, нежели нового человека. Зимой – и вовсе никого нет. А вот по осени, когда приходит на нерест семга, – откуда кто берется. И ведь все на машинах, на служебных, с правильными документами. И столько неотложных дел оказывается надо людям решить именно в этот момент здесь, что диву даешься. Вот какая сила у царской рыбы. Сам Семенович забыл, когда и пробовал ее. Нынче вот с Юрком сдружился, тот обещал угостить. Да и тут не вышло. Не идет нынче семга на запад. Валит валом в Варзугу. И то ведь случайным быть не может: каждая рыбина возвращается туда, где родилась, и если куда не вернулась, значит, той нет. Видно не повезло семге с других рек. Переловили ее рыбаки в море-океане или еще что случилось. В наше время все можно ждать от человека, если он, к примеру, даже селедку способен выловить так, что ее в магазинах десяток лет не сыщешь.
– Считай, что из-за литературы пострадал,– неожиданно подытожил Юрка свое недолгое размышление. – Из-за нее, из-за чего еще! Из-за нее мы и отца лишились. Правильно, батя? – обратился жалостливо Юрок к отчиму.
Тот неуверенно повел плечами, продолжая гонять через себя крутой дым и ослабевая в каком ни на есть тепле.
– Прочел Мишка где-то книгу,– начал рассказывать Юрок. – И пересказал нам с отцом. Мы втроем на тоне работали. Рыба не шла. Сгоняли в Кашкаранцы за бутылкой, ну и выпили под вечер. Особенно нам с батей понравилось место, где отец этого иностранца-пацана шляпе господина на столбе не поклонился, а тот приказал ему стрелять из лука в яблоко на голове сына.
– Тиля Улиншпигеля, – подсказал Суло.
– Бот именно, будь он неладен. Короче говоря, когда Мишка-то описал, как батя этого пацана одной стрелой яблоко с головы сына снял, наш батя в раж вошел. Мол, всегда сволочи на земле были, но и отчаянные люди – тож. «Я,– говорит, стрелу в руках не держал, а из мелкашки любое яблоко с любой головы сниму за полсотни метров». Тут Мишка и придумай: «А что, батя, сними с меня.» Батя: «Раз плюнуть».
На улицу вышли. Яблоко, конечно, – где взять. Нашли картофелину покрупнее. Мишка ее на кепку положил. Батя пятьдесят шагов отмерил, прицелился. Долго целился. Потом мелкашку опустил: «Нет, Мишка, не могу нынче. Руки, знать, с выпивки дрожат.» «Зато у меня не дрогнут. Держи ты, батя, яблоко». Вот Мишка отца и застрелил. Прямо в лоб закатал. Плакал, конечно, бился. И на суде тож. Книгу эту самую проклинал. Да ведь и то правда – не прочти он ее, разве пришла б ему на ум такая дурь.
Отца схоронили. Мишка химкомбинат строит. Я рыбу ловлю. А мать замуж вышла, чего одной-то. Правильно, батъ?
– А что, – пожал плечами тот. – Правильно…
Суло покачал головой. Потом встал, взял со стола ведро, пихнул дверь и за порогом вылил. Мужики очумело смотрели на него.
– Ты что, спятил? – первым очнулся Юрка.
– Ни к чему так, конечно,– недовольно крякнул чернобородый в очках.
– Все, прения закончены! – Суло поставил ведро на пол. – День только начинается, а у вас рожи уже сизые. К вечеру, Юрок, буду у тебя на тоне, там, может, и посидим чуток. А сейчас, мужики, в лагере санитарный день!
Ослушаться Суло было невозможно. В его холодных глазах финна, в жестком голосе, в тонкой складке рта, в спокойной твердости слов чувствовалась неуловимо-осознанная властность, которой он пользовался прицельно и наверняка, как делал все. И из всех дел умел извлекать пользу. При этом не жадничал, не ударялся в рвачество, при дележе вел себя подчеркнуто справедливо, порой готов был на самоотверженность и даже благородство. И все-таки за всеми его поступками непременно скользила легкая, неуловимая, неотрывная тень личного интереса. Каждый, кто имел дело с Суло, чувствовал себя надежно и даже комфортно: Суло брал на себя самое трудное, рискованное, он охотно подсказывал, помогал, даже заботился. Связка, которой он скреплял себя с напарником, благодаря его практицизму, житейской хватке, природной сноровке, была сверхпрочной. Но тут же возникала и осознанность, что в пиковый момент, в тот, на который не рассчитывали, который может свалиться вдруг, Суло в один миг эту связку порвет, не размышляя – в пользу кого и как поступить. Внутренне, мгновенно, ничуть не колеблясь, он выберет себя.
Игорь Сбойкин, уже несколько лет водившийся с Суло, сумел это почувствовать. И только потому решился съездить с ним за семгой, что никакой исключительности риска не предвиделось. Соблазн же увидеть то, о чем только слышал, был велик. Испытать в натуре нагрузки и страхи, и удовольствия, которые возможны лишь в необыкновенной глуши и в необыкновенных ситуациях – тоже своего рода роскошь. Хоть, в рыбный сезон, конечно, не это горячит головы стремящихся сюда людей.
Кольский полуостров им предстояло пересечь сверху вниз у самого основания, то есть от Баренцева до Белого моря. Когда-то из-за бездорожья это было проблемой. Ныне автолюбитель, отправляющийся в отпуск на юг, проскакивает отличное шоссе, ведущее из тундры в тайгу, за несколько часов. Потом, за Кандалакшой, им следовало повернуть налево, вдоль Кандалакшского залива. Там начинается тот самый Терский берег, который мог бы украсить любой курорт мира своими необыкновенными пляжами, окажись он не за Полярным кругом, а хотя бы в субтропиках.
Всего отмахать предстояло сотни три километров, а то и четыре. Но только половину – по гарантированному шоссе. Остальное – грунтовые дороги, как везде, способные измениться до неузнаваемости после непогоды, особенно осеннего дождя.
Оформить командировку Сбойкину не составило труда. Действительно, были там у него служебные интересы. И молодой водитель уазика Вася Коломиец, только что закончивший службу на флоте, начал одухотворенно готовить материальную часть
План был таков. В Умбе – последнем городе на восток от Кандалакши, официально определить свое присутствие в этих местах, а затем направиться дальше к Мысу Корабль, где добывают аметисты, где геологи оставляют на зиму свой лагерь, где можно остановиться, поживиться аметистовым браком и тут же попробовать поставить сети. У Суло их было две. Это 100 рублей штрафа, если даже ничего не поймал. А если поймал, то еще по 75 рублей за каждый хвост. Если хвостов больше трех, то одним штрафом не отделаешься… Но семга – рыба царская. Перед ее вкусом не все могут устоять. А ведь все, что движет человеком в жизни определяется одним изначальным чувством: хочется. И что он делает – признанно-полезное или общественно осуждаемое, зависят от сути желания и его силы.
Нередко человеку больше всего хочется то, что ему вредно. И даже опасно, и не ему одному. Но человек не всякий может перед своим желанием устоять. И в этом слаб он, слабо человечество вообще. Бороться с желаниями бывает трудно, а то и поздно. Легче их разумно формировать.
«Очень хотелось», – говорит мне жена, когда оказывается, что она съела то, что врачами запрещено. И так жалобно-умоляюще смотрит, что упрекнуть ее в слабости было бы крайней бессердечностью.
Пьют, становятся алкоголиками тоже потому, что хочется – хочется выпить. Да что там говорить: сколько «хочется», столько бед на земле, и даже когда «хочется» хорошего, – это нередко может оказаться очень плохим. Так в советское время хотеть семги – было общественно опасно. Потому что даже по огромной госцене купить ее могли только избранные. Остальные – хоти не хоти, но не попробуешь, а если захочешь так, что желание станет побуждением к энергичным действиям, то волей-неволей совершишь сам или подтолкнешь другого к неблаговидным, а то и незаконным поступкам.
Получилось так, потому что прежде тот, кто хотел, не задумываясь, семгу ел, сполна удовлетворяя свое желание. Это не было предосудительным. Но, оказывается, сегодняшнее человеческое «хочу» имеет проекции в будущее и не всегда предсказуемое. И касается это не только глобальных масштабов, как, скажем, загрязнение окружающей среды или исчезновение отдельных видов растений и животных, но и отдельных человеческих судеб.
Сегодня, когда мы испытываем влияние очередной волны демографического спада, связанного с резким падением рождаемости во время войны, невольно думается о тех женщинах, которые, несмотря ни на что, все-таки хотели детей. Они их хотели искренне и сильно, не страшась ни неуверенного военного сегодня, ни неблагоприятного завтра. И этим выполнили свой величайший гражданский долг перед страной. Все-таки у нас есть военное поколение. Пусть оно немногочисленно, пусть в школах его едва набиралось по классу, а в институтах оказывались недоборы. Но четырехлетней бреши в развитии рода российского все-таки не оказалось.
Родившись в 1943 году, я принадлежу к этому военному поколению, которое будет напоминать о себе демографическими трудностями государству еще не раз. И ведь что удивительно: рождение каждого ребенка во фронтовые годы было событием неординарным, со сложной, остросюжетной, а то и остродраматической судьбой. Сколько детей, например, родившись, так никогда и не увидали своего павшего к этому моменту в боях отца.
Когда началась война, моей матери было 27 лет, а моей старшей сестре – 5. Через два года в большом двухэтажном деревянном доме, что на станции Дибуны с Финляндского вокзала Ленинграда, из многочисленных обитателей его мать и сестра остались вдвоем. Многочисленные сестры и братья первого мужа матери сумели эвакуироваться. В 1941 году умер свекор, в зиму 1942-го, в самый голод, умерла свекровь Варвара Карповна. Перед этим пропал ее сын Георгий – отец моей старшей сестры. Слабый здоровьем, но большой специалист, он получил бронь на номерном 33-м заводе Ленинграда. Однажды не вернулся домой. Мать объездила десятки моргов, но найти его не смогла. Как потом оказалось, его убила женщина-сослуживица с целью ограбления. Предмет ограбления – хлебные карточки.
Свекровь не питала особых чувств к невестке. Но перед смертью, убедилась в ее глубокой верности, преданности, человеческом участии. Наследство: дом и кое-что из драгоценностей она завещала остававшимся до конца рядом с ней невестке и внучке.
Блокадная зима 1942-го пощадила немногих. Весна принесла облегчения, но голод продолжался. В доме было съедено все, что можно было только представить в виде пищи. Прикроватный коврик из козлиной шкурки опалили, порезали, размочили, разварили, размололи…
Однажды июньским вечером к дому подошел взвод солдат. Старшина, упитанный, розовощекий, как показалось бы тогда дистрофикам, вызвал хозяйку.
– Бабка,– обратился он к вышедшей на стук женщине – распухшей от голода, с болезненно-усталым взглядом,– разреши нам баньку истопить да помыться.
Во дворе нашего дома тогда имелась рубленая баня, разобранная уже потом, после войны.
– Много вас тут, желающих, – недовольно пробурчала женщина, – сгноите, а кто строить будет?
– Во старая, – отошел к бойцам старшина, – не сегодня -завтра помрет, а баню жалко.
– Ну вот что, – все-таки не отступился он, – с баней все в порядке будет. А тебе консервов оставим.
Еда для ленинградцев была тогда магической силой, ни что не шло в сравнение с ней. На золотые вещи, оставленные Варварой Карповной в наследство, мать выменивала на хлеб. У продавщицы. Как ни малы были пайковые доли (125 грамм хлеба на человека в день), как ни строг был контроль (расстрел грозил за всякие жульнические действия с продовольствием), а продавщица все-таки изощрялась "выкроить" лишнюю буханку хлеба, чтобы поменять ее на золотые часы, кольца, браслеты, серьги… Все это мать отнесла ей. И, наверное, не только мать. После войны мать часто ее встречала: Дибуны поселок небольшой. Здоровались – это естественно, и золотых украшений продавщица носить не стеснялась, как потом не стыдились ее дети.
…Оставили солдаты консервы и ушли. Это были бойцы из 22-го отдельного укрепленного района, 105-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, что врылся, замуровался бетоном в землю у Белоострова, на рубеже реки Сестры.
Через две недели тот же старшина привел в баню тот же взвод. Вышла им навстречу молодая женщина, приветливо кивнула головой.
– Эй, красавица, – крикнул старшина, – а где та бабка?
– Какая бабка? – переспросила женщина.
– Да та, что нас мыться не пускала.
– Это я, – смутилась хозяйка, и растерялся старшина.
Не мог представить он, в общем-то, много повидавший, но все-таки, прежде всего из окопов и дотов, что может сделать пища с человеком. Что может голод – хорошо знал.
– Так разрешишь помыться, хозяюшка? А мы кой-чего тебе
с дочкой опять принесли.
Помывшись, взвод ушел. А старшина зашел в дом попрощаться. На минуту-другую, оказалось – на всю жизнь. Через год родился я, а мой отец уже ходил в младших лейтенантах. Это был 1943 год, и два месяца назад, 18 января, наши войска наконец-то прорвали блокаду Ленинграда. Город смог перевести дух. И тем, кто родился в нем, будущее уже гарантировалось.
Когда я писал эти строки, отцу уже было под семьдесят. Матери больше. Пройдя самый жестокий естественный отбор – 900-дневную блокаду Ленинграда, мать всю жизнь "поскрипывала", но ничем серьезным не болела. Одолела ее на семьдесят первом году простуда, перешедшая в рак легких. Рак оказался вялым, определенно установить его не смогли даже в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Но, тем не менее, свое дело он делал. В конце концов, мать слегла. Некоторую кратковременную помощь ей пытались оказать в районной больнице в Сестрарецке. Я приехал в Ленинград, и мы с отцом поехали к матери. Ехали дорогой, которая в блокадные годы была прифронтовой-рокадной. По ней и пришел отец впервые к матери. После войны, когда военная необходимость в этой дороге отпала, а местным властям восстанавливать и поддерживать ее было не под силу, дорога разбилась, превратилась в непролазную. Ею, да и то, как ориентиром, пользовались грибники, иногда, в сухой год, можно было одолеть часть пути на велосипеде или мотоцикле.
И вот лет через тридцать пять, там, где когда-то был бревенчатый настил, а потом его гнилушки, рытвины и непреодолимые ямы, лег стрелой асфальт с гравийными обочинами, с прореженным, на современный лад окультуренным, лесом по сторонам.
В войну отец пешком или на трофейном финском велосипеде добирался домой часами. Сейчас до того рубежа, где стояла его рота, машина проскочила за десяток минут. Впервые мы вместе проехали по его фронтовым местам. Окопы, траншеи, блиндажи, разумеется, исчезли, сровнялись с землей. А вот бетонные доты остались. Отец их помнил не только по местонахождению, тактико-техническим данным, но и по людям, с которыми здесь стоял.
Тонка была линия укреплений в этих местах. Очень тонка. Цепочка дотов, вытянувшаяся на десятки километров, и жидкие цепи сухопутных войск. Большего командование Ленинградским фронтом сюда дать не могло, сдерживая врага на основных направлениях. Если бы тогда, осенью 1941-го финны, а именно они действовали на Карельском перешейке, оказались порешительнее, они, пожалуй, с ходу смогли бы преодолеть этот оборонительный рубеж, и трудно было бы их тогда остановить. Сейчас кажется счастливой случайностью, что враг не воспользовался своим преимуществом на этом участке. На самом деле, события здесь развивались так, как и предполагало командование.
Финны, активно ведя наступательные действия, вышли на свою старую (до 1939 года) границу по реке Сестре и далее наступление прекратили. Единственное, что они сделали сверх того – захватили Белоостров да один из дотов – миллионщик. Так его прозвали бойцы, потому что по слухам строительство дота обошлось в миллион рублей. Он был самым мощным, совершенным, грозным, но… недостроенным, невооруженным. Захватить врагу его ничего не стоило. И такая же опасность, чего, к счастью, враг не знал, угрожала многим другим дотам в этом районе. Все станковые пулеметы были сняты и отосланы на передовую. В дотах оставалось по два человека: дежурный сержант и боец с винтовками.
Когда уже стало ясно, что враг вот-вот окажется у рубежа обороны, отца с еще одним бойцом под руководством политрука послали на перекресток дорог за Белоостровом набирать из отступающих гарнизоны для дотов. По дороге на Ленинград шли подразделения, но чаще одиночные группы солдат. Вот их-то политрук и сержант Быстров останавливали, собирали в команды и направляли в доты. При этом обращали внимание на вооружение, особенно "охотясь" на пулеметчиков с пулеметами. К концу дня во всех дотах гарнизоны были укомплектованы полностью личным составом с оружием. Но в бой вступить, практически, не пришлось. Браг остановился, и только в Белоострове шел ожесточенный бой. Узловая железнодорожная станция, важный оборонительный пункт, оказался в руках противника. И тогда из Ленинграда на помощь пехоте были срочно присланы два батальона моряков. Сегодня этот путь электричка от Финляндского вокзала проделывает за сорок минут. Тогда специальный поезд летел еще быстрее, доставляя курсантов военно-морского училища на место их первого в жизни боя.
Их не учили сухопутной тактике, тонкостям общевойскового боя. Они учились командовать корабельными подразделениями. Но, вступив в бой, моряки с ходу потеснили врага, выдавили его из Белоострова, освободив его сразу и до конца войны, и почти все полегли здесь.
Сразу после боя отец выбрался в Белоостров. Его интересовал дот-миллионщик. На освобожденных улицах было черно от бушлатов убитых и раненых курсантов. Отцу тогда исполнилось только 24 года, он прошел финскую, с первого дня воевал в Отечественной, никогда не отличался мягкостью сердца, но молодые, самоотверженно-безоглядные морячки его потрясли.
Сколько помню, чувства отца всегда шли от рационального, если что-то было бесполезно или вредно, то это никогда не могло пробудить у него чувства жалости. "Уничтожить, к чертовой матери!" Так он относился к врагу на фронте, ничуть не задумываясь о его человеческом обличье, о домашней кошке,
наладившееся воровать у соседей цыплят, о псе Топке, сорвавшемся в какой раз с цепи и опять наделавшем бед, о полюбившейся нам, но переставшей плодоносить яблоне…
Не переживаний, ни расстройств в таких случаях никогда не ведал отец, если в сознании это диктовалось словом «нужно». Мы держали корову и каждый год нужно было резать теленка. Независимо от пола его называли Данилкой. И неизменно Денилка, рыжий или черный, с белыми пятнами или ровной масти, становился моим приятелем. Он бодал головой мою руку, просунутую в загородку, прижимал уши при почесываниях и нахально взбрыкивал ногами, едва допив принесенное молоко.
И вдруг наступал последний Данилкин день. Самое ужасное заключалось в том, что отец, приучая меня ко всем домашним делам, не делал исключения и при убиении животных. Обязанности мои были просты до содрогания: подставлять эмалированный тазик под хлынувшую из горла теленка кровь. Да так, чтобы на землю не пролилось. Поэтому смотреть надо было в оба, давя в себе боль, жалость, страх.
Отец выводил из сарая ничего не подозревающего Данилку, держа рукой за холку. За правым голенищем сапога у отца торчал длинный финский штык с остро отточенным лезвием. Теленок весело брыкался, но из-под мощной руки отца даже не норовил уйти. Отец брал колун, я – тазик. Взмах отцовской руки, мигом помутневшие от удара глаза теленка, стук отброшенного колуна, и всблеск полоснувшего горло животного кинжала. Кровь ударяла в тазик, дымилась, алая пена крутилась на поверхности, плыл солоноватый дурман. Я боялся закрыть глаза, судорожно сжимая зубы.
Опыт участия в резании скота был у меня большой – отец и соседям помогал. Звали его охотно, так как делал он свое дело быстро, животных не мучил, а от вознаграждения отказывался. Но самому мне, слава Богу, никого обезглавливать не пришлось. И смогу ли, если вдруг случится такая острая необходимость – не знаю. Но телятину с тех пор не ем. Отец же со временем тоже изменился. И двух последних телят забивал уже профессиональный скотобоец, которого можно было вызвать на дом.
Помню его до сих пор: маленький, невзрачный (в сравнении с мощным, статным отцом) мужичонка с пустым взглядом, редкими желтыми зубами, огромными ступнями и без половины среднего пальца на левой руке. Резал он проще, скорее, легче, но ужаснее. Как-то отец пожалел телочку. Пожалел в последний момент. Оставили, вырастили и продали. Хорошая была корова, надоистая. А вот заказной «резальщик» был действительно бесчувственно неотвратим, как наемный убийца.
Так вот, не испытывая жалости, когда она казалась ему необоснованной, отец чувствительно воспринимал все, что случалось вопреки здравого смысла, вопреки разумной естественности жизни. Как-то мы шли с ним по железной дороге на станцию и увидели среди рельсов мертвого голубя. Был апрель.
– Надо же, – глухо сказал отец, – зиму пережил и так обидно погиб.
Помню, как отец поседел. Он уже давно работал машинистом маневрового тепловоза, переучившись с машиниста паровоза, в которого вырос из кочегара. Зимой в сильную метель, когда видимость, как говорят моряки, упала до нуля, его тепловоз столкнулся на перегоне с мотовозом, приспособленным под снегоочиститель. Виновным посчитали мастера подъездных путей, погибшего при столкновении. Он, яко бы самовольно, не получив разрешения дежурного по станции, выехал на перегон.