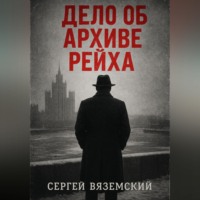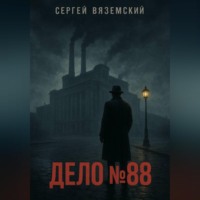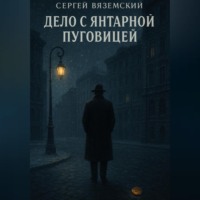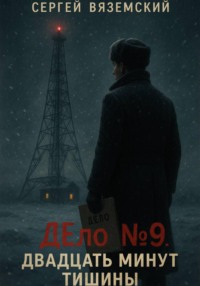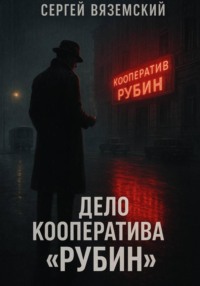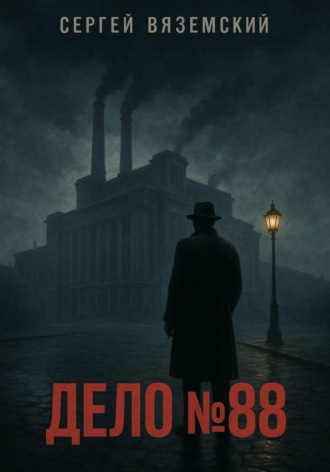
Полная версия
Дело №88

Сергей Вяземский
Дело №88
Папка на подпись
Коридор был длинным, как жизнь, которую не выбираешь. Шаги тонули в сумеречной тишине, поглощаемые стертым до желтизны линолеумом и стенами казенного, тошнотворного цвета. Здесь даже воздух казался старым, пропитанным запахами архивной пыли, дешевого табака и невысказанного страха, осевшего на всем, словно сажа. Двери кабинетов, обитые потрескавшимся дерматином, были похожи на немые рты, хранящие чужие тайны и сломанные судьбы. За каждой – свой мирок, своя воронка, втягивающая человеческие жизни, чтобы перемолоть их в абзацы протоколов. Я шел мимо них, чувствуя на спине их безмолвное внимание. Здание на Вайнера не имело глаз, но видело все.
Кабинет майора Сидорова находился в конце крыла, в тупике. Символично. Сидоров и сам был тупиком – для любого дела, требующего чего-то большего, чем аккуратная подпись на последней странице. Я остановился перед его дверью, на секунду прикрыв глаза. Телефонный звонок не предвещал ничего, кроме очередной порции бюрократической тягомотины, но что-то в выверенной пустоте голоса Сидорова заставило внутренности сжаться в холодный, привычный комок. Это было предчувствие, выработанное годами службы, сродни тому, как фронтовой разведчик по неестественной тишине в лесу понимает – впереди засада.
Я постучал. Два коротких, уставных удара.
– Войдите, – донеслось глухо, будто из-под ватного одеяла.
Сидоров сидел за своим столом, массивным, как надгробная плита. Стол был пуст, если не считать бронзового пресс-папье с профилем Дзержинского и тонкой папки серого картона, лежащей точно по центру. Сам майор, рыхлый, с одутловатым от недостатка сна и избытка служебного рвения лицом, напоминал перекормленного голубя. Он поднял на меня свои бесцветные глаза, в которых никогда не отражалось ничего, кроме света настольной лампы.
– А, Волков. Проходи, садись.
Я сел на стул для посетителей, жесткий и неудобный, специально созданный для того, чтобы никто не засиживался. В кабинете пахло одеколоном «Шипр» и чем-то еще, неуловимо кислым – запахом постоянной тревоги.
– Вызывали, товарищ майор?
– Вызывал, Алексей Петрович, вызывал, – Сидоров пожевал губами, словно пробовал слова на вкус, прежде чем их произнести. Он всегда так делал, когда разговор касался чего-то, за что потом могли спросить. – Дело есть. Пустяковое, в общем-то. Но с самого верха просили… ускорить. Чтобы без проволочек.
Он аккуратно, двумя пальцами, подвинул ко мне папку. На обложке каллиграфическим почерком делопроизводителя было выведено: «Дело №88». Две восьмерки, два кольца, похожие на звенья одной цепи. Или на знак бесконечности. Бесконечности лжи, бесконечности страха.
– Что там? – спросил я, не прикасаясь к картону.
– «Уралмаш», – Сидоров понизил голос, хотя в его кабинете стены были толще, чем совесть у прокурора. – Вредительство. Турбогенератор новый накрылся. Экспериментальный образец. Серьезная машина, для новой ГЭС предназначалась. А тут – авария. Экспертиза показала – диверсия.
– Кто фигуранты?
– Пятеро. Инженеры из конструкторского отдела. Вся верхушка. Заместитель главного, начальники секторов… – он махнул пухлой рукой. – Все сознались. Показания подробные, чистосердечные. Раскаялись, как положено.
Я смотрел на него. Он смотрел куда-то мимо меня, на портрет Феликса Эдмундовича, словно ища у железного наркома поддержки и одобрения.
– Если все сознались, в чем моя работа? Перепечатать протоколы и передать в трибунал? С этим и секретарь справится.
На лице Сидорова промелькнуло раздражение, но он тут же спрятал его под маской усталой озабоченности.
– Не ершись, Волков. Приказ из обкома. Лично товарищ Степанов звонил. Дело политическое, понимаешь? Срыв поставок для большой стройки. Москве нужно показать, что мы тут не мышей ловим. Что враг не дремлет, но и мы начеку. Так что твоя задача – формальность. Проверить бумаги, составить обвинительное заключение и направить по инстанции. На все – сорок восемь часов.
Сорок восемь часов на пять жизней. Чуть меньше десяти часов на человека. Арифметика системы.
– Понятно, – сказал я ровным голосом.
Я взял папку. Картон был холодным и гладким. Словно кожа покойника.
– Исполнители есть, мотивы установлены? – спросил я, уже поднимаясь.
– Все там есть, – Сидоров заметно расслабился, радуясь, что самый неприятный этап разговора позади. – Антисоветские настроения, недовольство линией партии. Стандартный набор. Один из них, кажется, из бывших. Отец при царе фабрикой владел. Гнилая интеллигенция, одним словом. Сам все увидишь. Главное, Алексей, без самодеятельности. Прошу тебя. Дело ясное, как слеза комсомолки. Просто сделай, что велено. Полковник Орлов лично будет интересоваться.
Имя Орлова повисло в воздухе, уплотняя его. Это была не просто фамилия начальника управления. Это был знак качества. Если дело интересовало Орлова, значит, оно было не просто ясным, а заранее решенным. И приговор был вынесен еще до того, как я открыл первую страницу.
– Будет сделано, товарищ майор, – ответил я, поворачиваясь к двери.
– Вот и славно, – пробормотал Сидоров мне в спину. – Иди, работай. Страна ждет.
Я вернулся в свой кабинет, в свою келью с видом на серый кирпичный колодец двора. Положил папку на стол, прямо в круг света от зеленого абажура. Сел. Несколько минут просто смотрел на нее. Дело №88. Оно лежало на моем столе, как неразорвавшийся снаряд. Тихое, безопасное на вид, но способное разнести в клочья не только мою карьеру, но и остатки того, что я когда-то считал совестью.
Война научила меня одной простой вещи: никогда не доверять тишине. Самые опасные минуты – это не грохот артиллерии, а затишье перед атакой. Это дело было слишком тихим. Слишком гладким. «Все сознались». Эта фраза в наших стенах звучала либо как результат виртуозной работы следователя, либо как наспех состряпанная фальшивка. А я знал, что виртуозов в управлении почти не осталось. Одни ушли на пенсию, другие – в могилу, третьи спились. Остались исполнители. Такие, как Сидоров. И контролеры. Такие, как Орлов.
Я достал из ящика пачку «Беломора», вытряхнул одну папиросу. Помял ее в пальцах, не закуривая. Привычка, оставшаяся с фронта. Там табачный дым мог стоить жизни. Здесь – неосторожное слово. Принцип тот же.
Наконец я открыл папку.
Первыми шли установочные данные на фигурантов. Пять анкет, пять фотографий. Лица как лица. Усталые, интеллигентные. Очки в роговой оправе, залысины, морщины у глаз. Инженеры. Соль земли, как любили говорить в газетах. Костомаров, пятидесяти двух лет, заместитель главного конструктора, орденоносец. Зайцев, тридцать восемь, мой ровесник, начальник сектора. Шульгин, шестьдесят четыре, старый специалист еще царской выучки. Лебедев, сорок пять. И самый молодой, Горин, двадцать семь, недавний выпускник политеха, комсомольский активист. Пять разных людей, пять разных судеб. Что могло их объединить в группу вредителей? Недовольство линией партии? В это я мог поверить. Многие были недовольны, особенно те, кто умел думать. Но от кухонного шепота до диверсии на оборонном заводе – дистанция огромного размера.
Дальше лежал акт технической экспертизы. Сухо, на двух страницах, он констатировал факт поломки турбины вследствие «преднамеренного внесения инородных частиц карбида вольфрама в систему смазки опорного подшипника». Формулировка была безупречной. Имя эксперта, некто Петров из заводской лаборатории, мне ничего не говорило. Подпись была уверенной, с размашистым росчерком. Слишком уверенной.
А потом начались протоколы допросов. Пять аккуратных стопок, сшитых суровой ниткой. Я начал с Костомарова, самого старшего по должности.
Протокол был образцом каллиграфии и канцелярского стиля. Костомаров, Игорь Семенович, «будучи враждебно настроен по отношению к советской власти и политике Коммунистической партии», «вступил в преступный сговор с подчиненными ему инженерами с целью подрыва экономической мощи СССР». Дальше шло детальное описание того, как они месяцами вынашивали план, как доставали порошок карбида вольфрама, как молодой Горин, пользуясь своим комсомольским значком как пропуском, проник ночью в цех и совершил диверсию. Все было логично, последовательно и совершенно неправдоподобно.
Я отложил протокол Костомарова и взял следующий, принадлежавший Зайцеву. Начало было таким же. «Будучи враждебно настроен… вступил в преступный сговор…». Я пробежал глазами по тексту, и холодок, не имеющий отношения к сквозняку из рассохшейся рамы, пополз по спине. Фразы повторялись дословно. Не просто по смыслу – слово в слово. «Осознавая пагубность волюнтаристских методов руководства народным хозяйством…», «желая доказать несостоятельность плановой экономики…». Это были не слова инженера, это были цитаты из передовицы «Правды», вывернутые наизнанку.
Я открыл третий протокол. Шульгин, старый инженер. И снова: «пагубность волюнтаристских методов», «несостоятельность плановой экономики». Тот же мертвый, безжизненный язык. Я представил себе этого шестидесятичетырехлетнего старика, который всю жизнь имел дело с металлом, с чертежами, с языком формул, и попытался вообразить, как он изъясняется этими газетными штампами. Не получалось. Люди так не говорят. Даже когда признаются в убийстве. Их речь рваная, она спотыкается, путается, она живая. А это было мертвое.
Я встал и подошел к окну. Снаружи уже сгустились ранние уральские сумерки. Город зажег редкие огни. Вдалеке, на горизонте, небо подсвечивало багровым заревом – это дышал во сне Уралмаш, стальной Левиафан, пожирающий руду, уголь и человеческие жизни. Этот город, этот завод, эта система – все было одним огромным, сложным механизмом. И я был в нем всего лишь мелкой деталью. Винтиком, который должен был выполнять свою функцию – закручиваться, когда прикажут.
Но что-то внутри меня сопротивлялось. Что-то, выжившее под пулями у Прохоровки, не сгоревшее в танке, не утонувшее в ледяной воде Ладоги. Воспоминание, от которого до сих пор сводило зубы. Последнее дело, которое я вел еще в МГБ, в пятьдесят втором. Дело «врачей-отравителей». Тогда я тоже сидел вот так, над папкой, в которой все было гладко и ясно. И тоже чувствовал эту фальшь, эту мертвечину. Но тогда я промолчал. Подписал. Отправил людей под расстрельную статью. А через год их реабилитировали. А я остался жить с этим. С памятью о глазах того старого профессора, который на последнем допросе смотрел на меня не с ненавистью, а с какой-то вселенской, нечеловеческой тоской.
Я вернулся к столу. Теперь я читал не просто протоколы. Я искал. Я знал, что тот, кто стряпал это дело, был ленив и самонадеян. Он был уверен, что никто не станет вчитываться. Что все побоятся. И он должен был оставить след. Ошибку.
Я разложил на столе все пять «чистосердечных признаний». Включил вторую лампу, чтобы света было больше. И начал сравнивать. Не абзацы. Строчки. Слова.
И я нашел.
Это была мелочь. Деталь, на которую не обратил бы внимания ни Сидоров, ни прокурор, ни судья из военного трибунала. Технический термин. В описании механизма поломки у всех пятерых фигурировала фраза: «…что привело к абляционному уносу материала с поверхности баббитовой заливки подшипника».
«Абляционный унос».
Я не был инженером, но за годы службы навидался разных экспертиз. Я знал, что такое «износ», «эрозия», «коррозия». Но «абляция»? Слово было чужим, книжным, наукообразным. Оно резало глаз в тексте, якобы записанном со слов заводского инженера. Но самое главное было не это. Главное, что это сложное, специфическое определение присутствовало во всех пяти протоколах. Дословно. С той же самой «баббитовой заливкой».
Это было невозможно.
Пять разных людей, допрашиваемых по отдельности, в разное время, разными следователями, не могли использовать одну и ту же редкую научную формулировку. Они могли сказать «стерся», «оплавился», «разрушился». Старый Шульгин мог бы употребить какой-нибудь забытый термин еще дореволюционной инженерной школы. Молодой Горин мог блеснуть знаниями, полученными в институте. Но чтобы все пятеро, как один, заговорили языком диссертации из столичного НИИ? Нет. Это была не их речь. Это была речь одного человека. Того, кто составлял для них текст признания. Того, кто потом вложил эту же фразу в заключение липовой экспертизы, чтобы все сошлось.
Это была подпись. Невидимые чернила, проступившие под светом моей лампы. Автограф фальсификатора.
Я откинулся на спинку стула. В кабинете было тихо. Так тихо, что я слышал, как стучит кровь у меня в висках, прямо там, где старый шрам от осколка начинал ныть на перемену погоды. Погода менялась. В стране вроде бы наступила оттепель, но здесь, в коридорах госбезопасности, все еще гуляли сквозняки сталинской зимы.
Приказ ясен. Исполнитель определен. Мотивы – в папке. Ложь.
Сидоров сказал: «без самодеятельности». Орлов «будет интересоваться». Сорок восемь часов. Два щелчка часового механизма – и пять жизней будут перемолоты в лагерную пыль. Все, что от меня требовалось – поставить свою подпись. Стать соучастником. Еще раз.
Я посмотрел на телефонный аппарат на углу стола. Черный, тяжелый, он казался затаившимся пауком. Один звонок на завод, в лабораторию. Один вопрос эксперту Петрову, чья подпись стояла под актом. Вопрос о том, что такое «абляционный унос» и почему он решил использовать именно этот термин. Простой вопрос. Но в нашем мире простые вопросы часто вели к очень сложным последствиям.
Я снова взял в руки папиросу. В этот раз я ее закурил. Горький, едкий дым наполнил легкие. Он был похож на воздух этого города. На вкус этой жизни.
Дело №88 лежало на моем столе. Папка на подпись. Но теперь я знал, что это не конец истории. Это было только ее начало. И чтобы дойти до финала, мне предстояло спуститься в самый темный и грязный цех этого гигантского завода по имени Система. Туда, где в густом машинном масле и лжи ломают не только сталь, но и людей.
Сталь не прощает ошибок
«Волга» плыла по раскисшему мартовскому снегу, оставляя за собой грязный, рваный след. Город кончился незаметно, без предупреждения. Панельные коробки новостроек сменились бесконечными заборами с колючей проволокой, за которыми вставали спины цехов – огромных, безликих, похожих на хребты доисторических зверей, уснувших в серой дымке. Уралмаш не был заводом. Он был отдельным государством со своими границами, законами и, как я теперь понимал, со своими государственными тайнами. Воздух здесь был другим – густым, с привкусом металла и угля, он оседал на языке горьковатой пылью. Даже небо над этой территорией имело свой, особенный оттенок – цвет выцветшей солдатской гимнастерки.
Меня встретили у проходной двое. Один – высокий, костистый, с обветренным лицом и руками, которые, казалось, были выкованы из того же металла, что и станины станков в его цеху. Это был Баранов, начальник турбинного цеха. Второй – невысокий, плотный, в хорошо сидящем пальто и шляпе, с лицом гладким и непроницаемым, как у партийного функционера на трибуне. Им он и был – Михеев, парторг цеха. Они были как два полюса этого мира: один создавал, другой – направлял. Один пах машинным маслом, другой – дорогим папиросным табаком и властью.
– Капитан Волков, – представился я, протягивая удостоверение.
Баранов пожал мне руку. Его ладонь была как тиски, покрытые мозолями, твердыми, как наждачная бумага. В его взгляде было что-то тяжелое, уставшее. Взгляд человека, который не спит ночами, прислушиваясь к дыханию своих машин.
Михеев лишь слегка кивнул, удостоверения не коснулся. Его рукопожатие было мягким, коротким и ничего не выражающим. Он сразу взял инициативу.
– Пройдемте, товарищ капитан. Дело ясное, но формальности есть формальности. Мы окажем полное содействие органам. Вредители выведены на чистую воду благодаря бдительности партийной организации и честных тружеников. Гниль удалена.
Он говорил лозунгами, готовыми блоками фраз, вычитанных из передовиц. Баранов молчал, глядя куда-то в сторону, на трубу, изрыгающую в небо плотный, рыжий дым. Этот дым был кровью этого места. Его воздухом. Его сутью.
Мы шли по территории завода. Это был город в городе. Свои улицы, свои площади, своя железнодорожная сеть. Скрежет металла, глухие удары молотов, шипение пара – все это сливалось в единый низкочастотный гул, который проникал не в уши, а прямо в кости, заставляя все внутри вибрировать в унисон с этим гигантом. Люди, которых мы встречали, двигались быстро, сосредоточенно, не поднимая голов. Они были клетками этого огромного организма, каждый знал свою функцию, свое место в общей системе кровообращения.
Турбинный цех был собором. Исполинское пространство, теряющееся в полумраке под сводами ферм, где на недосягаемой высоте висели тусклые лампы. Их свет тонул в маслянистом воздухе, едва пробиваясь к бетонному полу. Здесь стояли они – турбины. Одни – разобранные, похожие на скелеты чудовищных насекомых, другие – уже собранные, готовые к отправке, источающие холодное спокойствие завершенной мощи. Воздух был пропитан запахом озона и горячего металла. Тишина здесь была особенной. Не отсутствие звука, а его избыток, слившийся в монотонную песню, от которой закладывало уши. Но в дальнем углу цеха, где мы остановились, эта песня обрывалась. Там царила другая тишина. Нездоровая, напряженная. Тишина места, где что-то умерло.
Поврежденный турбогенератор стоял на специальном стенде, огороженный веревкой. Он был новее и чище остальных, еще не покрытый слоем неизбежной заводской пыли. И эта новизна делала его увечье еще более уродливым. Машина не выглядела сломанной. Она выглядела убитой.
– Вот, – Баранов махнул своей огромной рукой в сторону агрегата. В его голосе не было злости или возмущения. Только глухая, бесконечная усталость. – Красавица была. Уникальный образец. Для Ангарской ГЭС делали. Новое слово в технике. Теперь – металлолом.
Михеев тут же вставил свое слово, будто боясь, что в речи начальника цеха не хватит идеологической выверенности.
– Враг не дремлет, товарищ капитан. Им ненавистен наш прогресс, наши успехи. Они бьют по самому важному. Но мы умеем давать отпор. Пятеро предателей уже дают признательные показания. Рассказали все в деталях. Как получали инструкции, как пронесли эту дрянь… карбид вольфрама… и засыпали в маслопровод.
Я не слушал его. Я подошел ближе, перешагнув через веревку. Обошел турбину кругом. Я не был инженером. Я не знал языка формул и чертежей. Но я четырнадцать лет своей жизни, с сорок первого года, имел дело с искореженным металлом. Я видел, что делает с броней снаряд. Видел, как рвется сталь от взрыва, как она плавится от огня, как трескается от усталости. Металл имеет свой язык, и я немного его понимал. Язык шрамов.
В акте экспертизы, том самом, где фигурировал «абляционный унос», говорилось о повреждении опорного подшипника ротора. Я присел на корточки. Корпус подшипникового узла был вскрыт. Внутри виднелась мешанина из оплавленного баббита и стальных осколков. Картина соответствовала описанию. Абразив в масле. Перегрев. Разрушение. Все логично. Слишком логично.
Я достал из кармана маленький фонарик, подарок одного старого криминалиста. Узкий, резкий луч выхватил из полумрака деталь, на которую никто, видимо, не обратил внимания. Или не захотел обратить. Вал ротора. Массивный, толщиной с телеграфный столб, он лежал на опорах. Рядом с разрушенным подшипником на его идеально отполированной поверхности виднелась трещина. Не царапина, не задир. Именно трещина. Тонкая, как волосок, она змеилась по металлу, уходя куда-то вглубь.
Я провел по ней пальцем. Края были острыми, свежими. Я посветил фонариком вдоль нее. И увидел то, что заставило холоду внутри меня, не имеющему отношения к промозглому цеху, сгуститься до твердости льда. В нескольких сантиметрах от основного повреждения, на валу был еще один изъян. Не трещина. Скол. Маленький, не больше ногтя, но глубокий. И его структура была иной. Металл здесь не был гладким. Он был зернистым, кристаллическим. Цвет его отличался, был темнее, с синеватым отливом. Это был след не трения. Это был след излома.
– Что это? – спросил я, не оборачиваясь, продолжая светить на скол.
За спиной повисла пауза. Она была плотнее, чем окружающий нас гул. Первым нарушил ее Баранов. В его голосе послышалось что-то похожее на замешательство.
– Это… вероятно, вторичное повреждение. Когда подшипник разлетелся, осколки могли…
– Осколки баббита? – я медленно выпрямился и повернулся к ним. – Баббит – мягкий сплав. Он не мог оставить такой след на легированной стали. Это похоже на усталостный излом. Или на дефект литья.
Я смотрел на Баранова. Он отвел глаза. Он все понимал. Он, проживший в этом цеху полжизни, не мог не видеть разницы.
Вмешался Михеев. Его голос стал жестче, в нем появились металлические нотки.
– Товарищ капитан, есть заключение заводской лаборатории. Есть признания вредителей. Они ясно сказали, что засыпали абразив. Это вызвало перегрев и разрушение. Все остальное – технические нюансы, не имеющие отношения к сути дела. Ваша задача, как я понимаю, оформить материалы, а не проводить повторную экспертизу.
– Моя задача – установить истину, товарищ парторг, – ровно ответил я. – А истина, как и сталь, не любит, когда ее пытаются согнуть. Она ломается.
Я снова подошел к валу. Посветил на основной разлом, где подшипник превратился в кашу. Потом перевел луч на маленький скол. Разрушение от трения – это процесс. Долгий. Металл бы «уставал», грелся, его структура менялась бы постепенно. Он бы деформировался, потек. Здесь же картина была иной. Основное разрушение – да, похоже на следствие перегрева. Но этот маленький скол… Он был точкой, с которой все началось. Первичной причиной. Словно в этом месте в металле жило внутреннее напряжение, и оно в какой-то момент не выдержало. Как на фронте. Танк может выдержать десять попаданий. А одиннадцатый снаряд, попавший в то же место, раскалывает броню, потому что металл уже «запомнил» предыдущие удары.
– Карбид вольфрама – чрезвычайно твердый материал, – я говорил медленно, скорее для себя, чем для них. – Он бы оставил царапины. Глубокие, параллельные борозды по всей окружности вала. Здесь их нет. Поверхность гладкая, если не считать этой трещины.
– Эксперты разберутся, – отрезал Михеев. Его лицо стало совсем непроницаемым. Маска.
– Они уже «разобрались», – я выключил фонарик и сунул его в карман. – Я хочу видеть образцы металла, которые брали на анализ. И заключение эксперта Петрова. Лично.
– Это невозможно, – тут же отреагировал парторг. – Материалы дела уже переданы вам. Лаборатория – режимный объект.
– Я представитель Комитета Государственной Безопасности, расследующий диверсию на режимном объекте, – я посмотрел ему прямо в глаза. – Для меня нет «невозможного», товарищ Михеев. Есть только саботаж следствия. Вы ведь не хотите, чтобы в деле появился еще один протокол? О воспрепятствовании?
На скулах Михеева заходили желваки. Он молчал, подбирая слова. Взвешивая риски. Я видел, как в его голове работают шестеренки, просчитывая варианты. Отказать мне – значит, вызвать подозрение. Согласиться – значит, позволить мне сунуть нос туда, куда, очевидно, совать его не следовало.
Баранов кашлянул в свой огромный кулак.
– Я провожу, – сказал он глухо, не глядя на парторга. – Лаборатория в соседнем корпусе.
Михеев бросил на него короткий, злой взгляд, но промолчал. Он понял, что дальнейшее сопротивление будет выглядеть глупо.
Мы шли молча. Гул цеха остался позади, сменившись относительной тишиной коридоров административного корпуса. Здесь пахло бумагой, краской и той же казенной тоской, что и в нашем здании на Вайнера. Только масштабы были другими. Баранов шел впереди, его широкая спина почти полностью перекрывала узкий коридор. Он не оборачивался. Я чувствовал, как тяжело ему далось это решение. Он был человеком системы, винтиком в этой огромной машине, но, в отличие от Михеева, его система состояла из стали и допусков, а не из параграфов и директив. И он видел, что сталь не сходится с бумагой.
– Петров – хороший специалист? – спросил я, чтобы нарушить молчание.
Баранов помедлил с ответом.
– Лучший, – наконец выдавил он. – Старой школы. Металл чувствует, как жену. Ошибиться не мог.
– Значит, не ошибся, – заключил я.
Баранов ничего не ответил. Мы остановились перед массивной дверью с табличкой «Криминалистическая лаборатория». Из-за двери не доносилось ни звука.