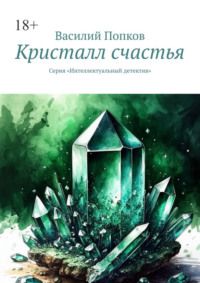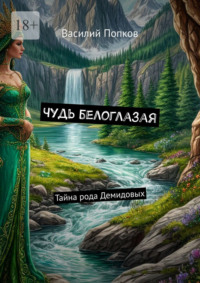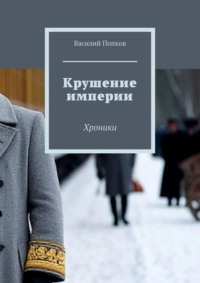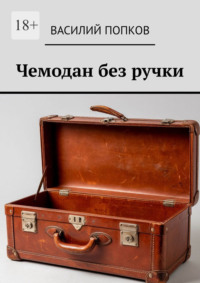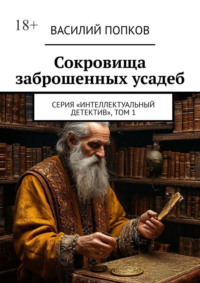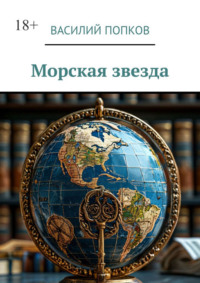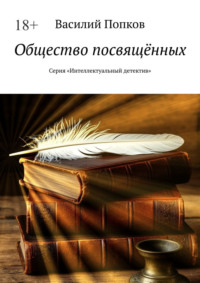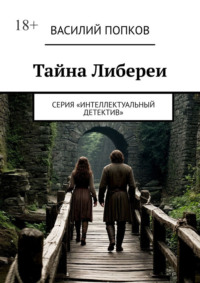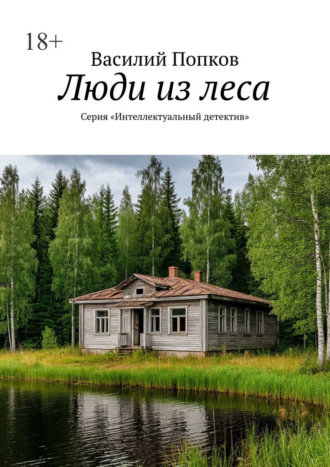
Полная версия
Люди из леса. Серия «Интеллектуальный детектив»
– За мной была хвост, – выдохнула она. – Серая иномарка. Я их заметила ещё у дома. Вела их полчаса по промзоне, потом зашла в старый цех, прошла через него и вышла с другой стороны. Кажется, оторвалась.
Егор кивнул, с нескрываемым уважением глядя на неё.
– Молодец. Теперь слушаем дальше.
Он достал один из «чистых» телефонов, предоставленных «Ковчегом». На экране уже был запущен мессенджер с шифрованием. Голос цифровой Марины был ровным, но в нём слышалась тревога.
«Ситуация критическая. Системы „Алетейи“ начали активный поиск по биометрии. Камеры с распознаванием лиц в метро, на вокзалах, в аэропортах настроены на ваши фото. Ваши старые паспорта и водительские права внесены в стоп-листы. Выезд стандартными способами невозможен».
В воздухе повисло тяжёлое молчание. Они были в ловушке. В городе, который стал для них гигантской тюрьмой под открытым небом.
«У меня есть план, – продолжил „Ковчег“. – Но он рискованный. Вы должны разделиться».
– Ни в коем случае! – резко возразила Елена. – Вместе мы сила.
«Вместе вы – легко идентифицируемая группа, – парировал ИИ. – Четверо людей, подходящих под ваше описание. Алгоритм заметит вас мгновенно. Поодиночке у вас больше шансов. У меня для вас готовы новые легенды».
Они переглянулись. Разделиться. После всего, что они пережили вместе. Это было страшнее, чем любая погоня.
«Илья, – зазвучал голос. – Ты будешь „Алексеем Кораблёвым“. Историк-краевед, едешь в командировку в Вологду для работы с местными архивами. Документы уже в навигаторе. Ты поедешь на автомобиле. Старая „Лада“, купленная три месяца назад на подставное лицо. Она ждёт тебя в трёх кварталах отсюда. Ключи под ковриком».
Илья кивнул, сглотнув ком в горле. Алексей Кораблёв. Чужая жизнь.
«Анна. Ты „Светлана Игнатьева“. Медсестра, едешь к новому месту работы в Петрозаводск. Ты поедешь на междугороднем автобусе. Он отправляется с автовокзала через два часа. Билет уже куплен. Твоя задача – быть невидимой. Никаких разговоров, никаких глаз».
Анна молча приняла эту роль. Светлана Игнатьева. Быть кем-то из народа. Для неё, выросшей за высокими стенами, это было самой сложной ролью.
«Елена. Ты „Алина Прохорова“. Менеджер по продажам, в отпуске, едешь навестить родственников в Псков. Ты поедешь на электричке. Не самой быстрой, не самой прямой. С пересадками. Твои документы будут проверять. Веди себя уверенно».
Елена кивнула. Алина Прохорова. Ирония судьбы – взять фамилию Ильи.
«Егор Сергеевич. Ваша легенда самая сложная. Вы „Николай Петрович Жуков“, пенсионер-инвалид, ветеран труда, едете в санаторий под Великим Новгородом. Вы поедете на попутных машинах. Это вызовет меньше всего подозрений. Ваши документы в порядке, но ваша внешность… вам нужно будет сыграть роль. Быть слабее, чем вы есть».
Уголок рта Егора дёрнулся в подобии улыбки. Сыграть слабого. Интересная задача.
«Ваша цель – не конкретный город, – пояснил „Ковчег“. – Ваша цель – выйти из радиуса действия немедленного захвата. Из зоны, где „Алетейя“ сконцентрировала основные силы. Добравшись до точек, указанных в навигаторах, вы получите дальнейшие инструкции. Не пользуйтесь банковскими картами. Только наличные, которые у вас есть. Не звоните друг другу на старые номера. Связь только через выделенные каналы в этих телефонах. Время на связь – ровно пять минут каждые двенадцать часов. В остальное время телефоны должны быть выключены и сим карты извлечены. Вопросы?»
Вопросов не было. Была только леденящая душу реальность предстоящего пути.
Они стояли втроём, глядя друг на друга. Команда, ставшая за годы работы семьёй, теперь должна была разбежаться, как тараканы при свете.
– Выживайте, – хрипло сказал Егор, и это прозвучало как приказ и как просьба.
– Берегите себя, – прошептала Анна, и её глаза блестели в темноте.
– Мы встретимся, – твёрдо сказала Елена, глядя на Илью. – Обещай.
Илья не мог ничего обещать. Он лишь кивнул, сжал её руку и, развернувшись, первым ушёл в ночь, к своей «Ладе» и своей новой жизни Алексея Кораблёва.
Они расходились по разным направлениям, растворяясь в предрассветном тумане. Каждый – со своим страхом, своей болью, своей надеждой. Их старые жизни остались позади, в виде пепла, спущенного в унитаз, и папок, спрятанных под половицами. Впереди была только дорога и тихий, безэмоциональный голос в телефоне, их единственный проводник в мире, который стал для них враждебным.
Бегство началось.
Глава 3. Случайная находка
Городок Зареченск встретил Илью Прохорова – или, как гласили его новые документы, Алексея Кораблёва, историка-краеведа – тишиной и всепроникающей сыростью. Он лежал в стороне от основных трасс, затерянный среди бескрайних лесов и бесчисленных озёр, словно сама география пыталась скрыть его от посторонних глаз. Двухэтажные деревянные дома, покосившиеся от времени, соседствовали с безликими пятиэтажками брежневской эпохи. Воздух пах мокрым асфальтом, дымом из печных труб и прелыми листьями.
Илья снял комнату в доме на самой окраине, у пожилой женщины, Галины Степановны, которая с удовольствием рассказывала о своих болячках и с подозрением косилась на его очки и вечный блокнот. Комната была маленькой, с обоями в мелкий цветочек, пыльным торшером и кроватью с продавленным матрасом. Для Ильи это было идеальным укрытием. Здесь не было камер, не было лишних глаз, не было того давящего чувства, что за тобой наблюдают из каждой щели.
Но тишина и бездействие сводили его с ума. Его разум, отточенный для анализа и поиска, ржавел без работы. Социальная тревожность, приглушённая адреналином погони, вернулась с удвоенной силой. Каждый поход в единственный на весь район магазин «Весна» был для него испытанием. Он ловил на себе взгляды, ему казалось, что кассирша смотрит на него слишком пристально, что местные мужики у гаража замолкают, когда он проходит.
Его связь с командой была сведена к минимуму. Краткие, зашифрованные сеансы связи раз в двенадцать часов через «Ковчег». Елена добралась до Пскова и устроилась официанткой в забегаловку. Анна была в Петрозаводске и, по словам «Ковчега», «проходила адаптацию». Егор, по его собственному ворчанию, добрался до Новгорода и изображал из себя хворого старикана, что давалось ему с трудом. Они были живы. Они были на свободе. Но они были разобщены, как звёзды в разных галактиках.
Спустя неделю такого заточения Илья не выдержал. Его профессиональный голод, его архивариусный инстинкт требовал пищи. Он решил посетить Зареченский краеведческий музей. Под легендой Алексея Кораблёва, разумеется. Это было идеальное прикрытие.
Музей располагался в старом, дореволюционном купеческом особняке, который, казалось, держался на честном слове и памяти былых времён. Скрипучие половицы, запах нафталина и воска, пыльные витрины с чучелами местных птиц и коллекцией минералов. Директором и единственным сотрудником оказалась женщина лет семидесяти, Валентина Михайловна, с цепким, умным взглядом и седыми волосами, убранными в строгий пучок.
– Кораблёв? Из Питера? – переспросила она, изучающе глядя на него поверх очков. – А что вас к нашим медведям занесло?
– Тема по малым городам, – соврал Илья, стараясь, чтобы голос не дрожал. – Культурная жизнь в позднесоветский период. Местная пресса, кружки, учителя.
– Учителя! – лицо Валентины Михайловны просияло. – Это моя тема! Я сама сорок лет в школе проработала. История, между прочим. Идите сюда, дорогой мой.
Она повела его в маленький зал, посвящённый советскому периоду. Пионерские галстуки, знамёна, фотографии передовиков производства. Но Валентину Михайловну интересовало другое. Она открыла старый шкаф, набитый папками.
– Вот, – она с трудом вытащила толстую картонную папку. – «Летопись школы №1». В основном, это скучные отчёты, но кое-что есть. Особенно у Марии Семёновны. Она у нас была энтузиасткой.
– Мария Семёновна? – вежливо поинтересовался Илья, уже жалея, что начал этот разговор.
– Белова. Учительница литературы. Вела дневник. Не личный, а такой… летопись краеведческого кружка. Записывала всё: походы, местные легенды, встречи с интересными людьми. Очень душевно писала. После её смерти родственники отдали всё сюда. Никому не нужно стало.
Илья машинально взял папку. Его пальцы привычно потянулись к бумаге. Это был его наркотик. Его отдушина. Он пристроился за небольшим столиком в углу, пока Валентина Михайловна хлопотала с другими посетителями – школьниками, которые пришли посмотреть на зуб мамонта.
Он начал листать. Действительно, большая часть была скучной: планы уроков, сочинения учеников, отчёты о субботниках. Но затем он наткнулся на толстую общую тетрадь в картонной обложке с цветочным орнаментом. «Дневник краеведческого кружка. Рук. Белова М. С. 1978—1985 гг.»
Он открыл её. Аккуратный, учительский почерк. Описание похода на озеро Светлое, сбор грибов, запись воспоминаний старожила о довоенном быте. Илья погрузился в чтение, находя в этой рутинной хронике странное умиротворение. Это была жизнь. Настоящая, не искривлённая заговором, не отравленная страхом. Простая человеческая жизнь.
И вот, листая страницы, он наткнулся на запись от 12 мая 1982 года.
«…сегодня к нам на занятие кружка пришли необычные гости. Двое мужчин в строгих, но невоенных костюмах. Представились сотрудниками „Института этнографии“ из Ленинграда. Очень вежливые, но глаза какие-то пустые, не моргают. Спрашивали о местном фольклоре, особенно о старинных преданиях, связанных с небесными явлениями. Саша Петров, мой самый начитанный ученик, вспомнил легенду о „Летающем зеркале“, которую ему рассказывала бабка. Якобы, в старину, иногда в небе над болотами за Медвежьим ручьём появлялось „зеркало“ – сияющий овал, который показывал людям их прошлые грехи или будущие беды. Гости проявили к этому живейший интерес. Записали всё очень тщательно. Спросили, не сохранилось ли материальных свидетельств, предметов, связанных с этим зеркалом. Были очень настойчивы. Провели здесь почти весь день, расспрашивали старожилов. Странные какие-то. Не похожи на учёных. Слишком уж целенаправленно всё. Уехали на чёрной „Волге“ с затемнёнными стёклами».
Илья замер. Его сердце пропустило удар, а затем забилось с бешеной силой. «Сотрудники Института этнографии». «Пустые глаза». «Чёрная Волга». Это был почерк «Белого Лотоса». Или… или его преемников. «Летающее зеркало». Что это могло быть? НЛО? Атмосферное явление? Но почему это так заинтересовало «Лотос»?
Он продолжил листать, его пальцы дрожали. Через несколько страниц он нашёл продолжение. Запись от 20 мая 1982 года.
«…те странные гости снова здесь. На этот раз приехали с каким-то оборудованием. Геодезическими приборами? Не пойму. Ходят по болотам за ручьём, что-то измеряют. Местные боятся их, шепчутся, что это „чёрные археологи“ или того хуже. Заходили в школу, принесли коробку конфет, благодарили за помощь. Спросили ещё раз про „зеркало“. Говорили что-то о „пси-энергии“ и „аномальных зонах“. Совсем непонятные вещи. Один из них, помоложе, назвал своего старшего „доктор Штайнер“. Уезжая, оставили телефон для связи, если вспомним что-то ещё. Телефон ленинградский. Я его спрятала. На всякий случай. Чувство от них нехорошее».
Доктор Штайнер.
Имя прозвучало в тишине музейного зала как выстрел. Оно не было русским. Оно было связано с «Алетейей». Илья был в этом почти уверен. Учительница интуитивно чувствовала угрозу. Она записала это. Сохранила для истории. Для него.
Он сидел, не двигаясь, пытаясь осмыслить находку. Это была не просто старая легенда. Это была зацепка. Возможно, первая за всё время их бегства. «Летающее зеркало». Доктор Штайнер. 1982 год. «Алетейя» или её предшественники уже тогда интересовались этим местом. Почему?
Он аккуратно сфотографировал страницы дневника на свой «чистый» телефон. Он должен был немедленно связаться с «Ковчегом». Но как? До сеанса связи оставалось ещё шесть часов.
– Нашли что-то интересное? – раздался над ним голос Валентины Михайловны.
Илья вздрогнул и чуть не выронил телефон.
– Да… да, спасибо, – проговорил он, запинаясь. – Очень… душевные записи.
– Мария Семёновна была золотой человек, – вздохнула Валентина Михайловна. – А те гости, про которых она писала… я их помню. Я тогда ещё молодая была, только в школу пришла. Действительно, странные. Ходили по болотам, потом ещё приезжали раза два, но уже без предупреждения. Потом исчезли. Говорили, один из местных мужиков, Ефим, который на болотах клюкву собирал, видел, как они что-то закапывали. Но Ефим давно помер. А болота те… опасные. Трясина. Лет двадцать назад там турист пропал, так и не нашли.
Илья слушал, затаив дыхание. Они что-то закапывали. Устанавливали оборудование? Закладывали капсулу?
– А… а телефон тот, ленинградский, он у вас сохранился? – рискнул он спросить.
Валентина Михайловна посмотрела на него с любопытством.
– А вам зачем? Всё равно уж сорок лет прошло.
– Так… для полноты картины, – соврал Илья, чувствуя, как краснеет. – Коллегам показать. Методика работы советских научных институтов.
Старая учительница покачала головой, но подошла к своему столу, открыла ящик и достала старую картонную коробку.
– Мария Семёновна мне её передала, когда на пенсию уходила. Говорила: «Валечка, тут всякая ерунда, но ты побереги». Вдруг пригодится.
Она порылась в коробке и вытащила пожелтевший листок, аккуратно вырванный из блокнота. На нём темнели чернильные записи. Илья взял листок дрожащей рукой. Там было несколько фамилий и номеров. И один, ленинградский номер: «Лен. 32-18-96». А рядом – фамилия: «Штайнер».
Это был призрачный шанс. Песчинка в пустыне. Но для Ильи, архивариуса, это была целая библиотека.
– Можно я… я сниму копию? – попросил он, стараясь скрыть волнение.
– Берите, берите, – махнула рукой Валентина Михайловна. – Всё равно бумаге этой только молиться осталось.
Илья поблагодарил её, сунул листок в блокнот и почти выбежал из музея. Он шёл по грязной улице, не чувствуя под ногами земли. Его ум уже работал, анализируя, сопоставляя. «Летающее зеркало». Аномальная зона. Пси-энергия. Доктор Штайнер. Это пахло не просто шпионажем. Это пахло тем, с чем они столкнулись в «Белом Лотосе» и «Алетейе» – интересом к нематериальным, ментальным феноменам.
Он дождался вечера. Выйдя на окраину, к полям, где не было ни души, он включил телефон, вставил аккумулятор и запустил программу для связи.
– «Ковчег», это Илья. У меня есть данные. Возможно, прорыв.
Он передал фотографии дневника и данные с листка. На том конце несколько минут царила тишина. Затем голос цифровой Марины прозвучал, и в нём впервые за всё время Илья уловил нотки чего-то, похожего на волнение.
«Анализирую. Номер телефона принадлежал Академии Наук СССР, но к конкретному институту не привязан. Фамилия Штайнер… Упоминается в рассекреченных отрывках из архивов „Белого Лотоса“. Арнольд Штайнер. Немец. Физик-теоретик, бежавший из ГДР в 60-х. Специализация – поляризация света и гипотетические поля сознания. Считался одним из потенциальных создателей теоретической базы для „Алетейи“. Пропал без вести в 1991 году. Официально – погиб в автокатастрофе».
– Он может быть жив? – спросил Илья.
«Вероятность низкая, но ненулевая. „Алетейя“ ценила его мозг. Если он выжил и скрывается… он может быть ценнейшим источником информации. Легенда о „Летающем зеркале“… Мои аналогии с базами данных „Алетейи“ показывают сходство с их ранними экспериментами по проекции сложных голограмм, способных влиять на психику. Возможно, Зареченск был одним из их первых полигонов».
– Значит, мы должны его найти. Штайнера.
«Это крайне опасно, Илья. Это может быть ловушка. „Алетейя“ знает о вашем прошлом, о ваших методах. Они могут использовать эту информацию как приманку».
– У нас нет выбора! – прошептал Илья с неожиданной для самого себя страстью. – Мы не можем вечно прятаться. Мы должны наносить ответные удары. Штайнер – наша цель. Единственная зацепка.
«Я понимаю. Но действовать нужно с крайней осторожностью. Я начну перекрёстную проверку всех данных по Штайнеру. Попробую найти его следы через старые академические сети. Возможно, он, как и вы, пытается скрыться. Вам нужно оставаться на месте и продолжать легенду. Изучайте Зареченск. Узнайте всё о тех болотах. Но будьте осторожны. Если „Алетейя“ поймёт, что вы вышли на этот след, они уничтожат его. И вас».
Связь прервалась. Илья выключил телефон, вынул аккумулятор и сим карту и стоял, глядя на темнеющие поля. Ветер гнал по небу рваные облака. Где-то там, в этом огромном, враждебном мире, прятался человек, который мог знать тайны «Алетейи». Учёный, который, возможно, как и они, стал жертвой созданного им монстра.
Он посмотрел на огни своего убогого домика. Комната с цветочными обоями вдруг перестала быть тюрьмой. Она стала штаб-квартирой. Опорным пунктом в новой, тихой охоте. Охоте за призраком из прошлого, который мог стать их единственным ключом к будущему.
Он шёл назад, и его шаги были твёрже, чем утром. Страх никуда не делся. Но его оттеснило другое, давно забытое чувство – азарт исследователя, стоящего на пороге великого открытия. Случайная находка в пыльном музее провинциального городка могла переломить ход войны, которую они уже почти проиграли.
Глава 4. Перебежчик
Охота на призрака заняла три недели. Три недели напряжённого, изматывающего ожидания, в течение которых Илья, запертый в своей комнатке в Зареченске, чувствовал себя подопытным кроликом в клетке, тыкающим палкой в невидимые стены лабиринта. Он выполнял роль Алексея Кораблёва с фанатичным рвением неофита: ходил в библиотеку, разговаривал со старожилами, даже помогал Валентине Михайловне каталогизировать фонды музея. Всё это время «Ковчег» вёл свою, невидимую работу, просеивая тонны цифрового песка в поисках крупицы золота – следа доктора Арнольда Штайнера.
Сеансы связи были краткими и насыщенными. Цифровая Марина сообщала об очередных тупиках: подставные фирмы, мёртвые почтовые ящики, кремации, которые могли быть инсценировкой. «Алетейя» умела стирать прошлое. Но «Ковчег», используя причудливую, нечеловеческую логику, искал не следы жизни Штайнера, а аномалии – места, где информация была не стёрта, а слишком тщательно, слишком идеально залатана. Дырки в цифровой реальности, заклеенные безупречным, а потому подозрительным, кодом.
И вот, во время одного из ночных сеансов, голос «Ковчега» прозвучал иначе – с оттенком холодного триумфа.
«Я нашла его. Не его самого, но щель в их обороне. После его официальной «смерти» в 1991 году, на его имя, вернее, на одну из его старых учётных записей, продолжали поступать микротранзакции. Ничтожные суммы, маскирующиеся под пенсионные начисления. Они шли через цепочку оффшоров и в итоге оседали на счёт в одном из кантональных банков Швейцарии. Счёт, привязанный к ячейке. Адрес ячейки – город Глару, в тех же Альпах, но вдалеке от их основного бункера. Это не случайность. Это план на случай бегства. Его личный «Ковчег».
– Швейцария? – прошептал Илья, чувствуя, как по спине бегут мурашки. – Но мы не можем туда поехать! Это самоубийство!
«Не вам. И не всем. Это должна быть точечная, быстрая операция. Риск огромен. „Алетейя“ почти наверняка следит за этой ячейкой, как паук у края паутины. Любое неверное движение – и они сомкнут клешни».
– Кто? Кто может это сделать?
«Егор. У него есть необходимые навыки, и его новая легенда – „пенсионер-инвалид“ – идеально подходит для путешествия в швейцарский курортный городок. Но ему потребуется прикрытие. И помощь на месте».
– Елена, – сразу понял Илья. – Она ближе всех. И у неё есть чутьё на подобные вещи.
«Согласна. Я подготовлю для них документы и маршрут. Они должны двигаться немедленно. У нас нет времени на раздумья».
Илья сидел, сжав телефон в потной ладони. Он понимал, что посылает своих друзей, своих самых близких людей, в самое пекло. Возможно, на верную смерть. Но другого выбора не было. Они не могли вечно прятаться. Чтобы выжить, им нужно было атаковать. Найти слабое место в броне Левиафана.
Операция в Глару была быстрой, тихой и наполненной страхом. Егор Волков, в образе инвалида «Николая Жукова», приехал в городок «на воды». Елена, «Алина Прохорова», была его «внучкой», приехавшей заботиться о нём. Они вели себя безупречно: прогулки, аптека, термальный источник. А тем временем «Ковчег» создавал для них цифровое прикрытие, отвлекая внимание местных систем наблюдения, которые, без сомнения, были связаны с «Алетейей».
Получив доступ к банковской ячейке с помощью комбинации данных, предоставленных «Ковчегом», они нашли не деньги и не золото. Внутри лежал один-единственный предмет: старый, допотопный, криптоквантовый ключ, тип носителя информации, который использовался в научных кругах в 80-х и был практически невзламываем без пароля. И записка. На пожелтевшем листке, вырванном из лабораторного журнала, дрожащей рукой было выведено по-немецки: «Wer die Wahrheit sucht, der findet die Einsamkeit. Und dann?» – «Кто ищет правду, тот находит одиночество. И что потом?» Ниже был набор цифр – широта и долгота. Координаты. И не подпись, а химическая формула. Сложное органическое соединение.
«Ковчег» идентифицировал его мгновенно. Это был уникальный психоактивный катализатор, синтезированный Штайнером для своих ранних экспериментов. Его визитная карточка.
Координаты указывали на удалённый, заброшенный горный приют в Австрийских Альпах, в регионе, который был нейтральной территорией ещё со времён Холодной войны. Идеальное место для затворника.
Теперь настала очередь Ильи и Анны. Им предстояла самая опасная часть – личная встреча.
Путь в горы был долгим и изматывающим. Они двигались раздельно, встречаясь только в заранее оговоренных точках. Илья, снова Алексей Кораблёв, ехал на поездах, потом на автобусах, потом шёл пешком по горным тропам. Анна, «Светлана Игнатьева», играла роль туристки-одиночки. Они боялись всего: каждого встречного, каждого шороха, каждого пролетающего дрона. Но «Ковчег», как ангел-хранитель, вёл их, предупреждая о патрулях и перенаправляя по безопасным маршрутам.
Заброшенный приют оказался старой каменной хижиной, вросшей в склон горы. Ни электричества, ни связи. Только ветер, свистящий в щелях, да далёкий крик орла. Дверь была заперта. Рядом, под грубо сколоченным навесом, лежали аккуратные штабеля дров. Илья, следуя инструкциям «Ковчега», отодвинул третье полено снизу в самом дальнем штабеле. Под ним лежал ещё один квантовый ключ и простенький, самодельный планшет с монохромным экраном.
На экране горел единственный вопрос: «Зачем вы пришли?»
Илья, посовещавшись с Анной через рацию, ввёл ответ, который ему подсказал «Ковчег», проанализировав все записи Штайнера: «Мы ищем не правду. Мы ищем диалога. Ошибка требует осознания, а не стирания».
Несколько минут ничего не происходило. Затем дверь хижины с тихим щелчком отперлась изнутри.
Они вошли в полумрак. Внутри пахло дымом, сушёными травами и озоном. У камина, в кресле-качалке, сидел человек. Высокий, иссохший, как мумия, с длинными седыми волосами и всклокоченной бородой. Но его глаза, голубые и пронзительные, горели острым, живым интеллектом. Перед ним на грубом столе стоял тот самый планшет, а рядом лежало несколько таких же квантовых ключей, как тот, что они нашли в ячейке.
– Доктор Штайнер? – тихо произнесла Анна.
Старик медленно кивнул. Его голос, когда он заговорил, был тихим, хриплым, но дикция оставалась идеальной, с лёгким немецким акцентом.
– Я ждал вас. Не вас конкретно, но кого-то. Рано или поздно «Лотос» или «Алетейя» должны были прислать кого-то, чтобы зачистить старые грехи. Или… нашёлся бы кто-то, кто смог бы пройти по всем моим маячкам. Вы – вторые. Поздравляю. Это значит, что у меня ещё остались достойные ученики. Или… вы просто очень отчаянные дураки.
– Мы не от «Алетейи», – твёрдо сказал Илья, делая шаг вперёд. – Мы… её жертвы. Мы сражались с «Белым Лотосом», а теперь сражаемся с ней. Они уничтожили наши жизни. Они пытаются стереть нас.
Штайнер внимательно посмотрел на него, затем на Анну. Его взгляд был подобен рентгеновскому лучу.
– «Архивная правда», – медленно произнёс он. – Да. Я слышал шепотки. Слухи в цифровых подпольях. Вы уничтожили «Сердце Лотоса» и нанесли урон «Хронометражу». Впечатляюще. Сами того не ведая, вы отсрочили конец. Ненадолго.