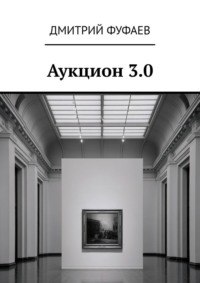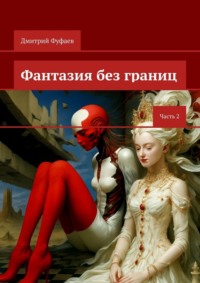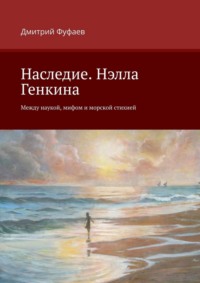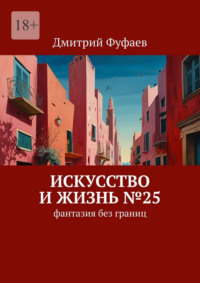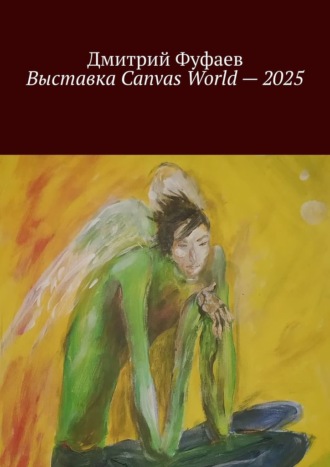
Полная версия
Выставка Canvas World – 2025. Обзор выставки современного искусства
Калейдоскоп и тень Бухары. х.а.,30х40,2023 г.

2 место, Международная выставка-конкурс современного искусства «Объединённые искусством», 2024 год, Мехико.
Ах, Бухара… Не город – дыхание веков. Картина втягивает зрителя в калейдоскоп, где история, культура и память кружатся, сталкиваются и вновь складываются в узоры восточной щедрости.
Здесь время не линейно – оно вращается, как трубка старинной игрушки: с каждым поворотом – новая сцена, новый век, новый смысл.
Художник призывает не только зрение, но и все чувства. Слышатся шумы базаров, крики торговцев, переливы дутаров, запах специй и пыли, согретой солнцем. Всё мерцает и дышит. Узорчатые фрагменты текут по полотну, распадаясь на лоскуты цвета и ритма. Земля словно покрыта ковром из памяти и грёз.
На заднем плане – тень минарета Калян. Она падает не просто на камни – она ложится на века. Это страж города, знак святости и наблюдения, след самого времени. Она пугает и защищает, величественна и тиха. Её не нужно видеть целиком – достаточно почувствовать.
Название картины хранит имя – Бухра. Это может быть женщина, дух, сама Бухара, окутанная тайной. А может – лишь фантом, оставленный в сердце того, кто однажды там был. Картина не даёт ответов – и в этом её сила. Она зовёт вспоминать, мечтать, ощущать связь с тем, что переживает нас.
«Калейдоскоп и тень Бухры» – это и про Восток, и про внутренний мир. Путь через шум и краски – к звону одиночного колокольчика в груди.
Газеты и мыло х.м., 30х35,1989 г.

2 место, XIII Международная выставка-конкурс «Санкт-Петербургская неделя искусств», 2022 год.
Это не просто натюрморт. Это тихий, почти застенчивый, но пронзительный рассказ о времени – потерянном, прожитом, но не забытом. На первый взгляд – случайные предметы: кусок серого мыла, газеты с пожелтевшими полосами, коробочка с резинкой. Но в этом – память. Здесь запах старой квартиры, сырой подвал
с потёками, стук ключей и голоса с кухни, где говорят вполголоса, чтобы не слышала власть.
Мыло – символ чистоты, но и дефицита. Не сувенир из бутика, а хозяйственный прямоугольник – грубый, честный, как сама эпоха. Газеты – не источник информации, а обёртка и подстилка. В них заворачивали рыбу, утепляли окна, искали намёки между строк, прятали иронии.
В этих предметах – целая жизнь. Жизнь, где не хватало еды, но была надежда. Где всё было «не очень», но всё равно – было. Здесь и память о времени, когда, как шутили, не было ни хлеба, ни сыра – зато «гуталин был, и газеты с мылом». Ирония проступает сквозь краску, но не разрушает серьёзности. Это не насмешка, а ностальгия и нежность.
Композиция сдержанна, но каждый предмет наделён смыслом. Нет блеска, только матовая тишина, полутени, лёгкий налёт пыли – отпечаток прошлого. Эта работа – не про вещи, а про состояния: нехватку, бережливость, устойчивость. Про то, как люди выживали, мечтали, верили, даже когда на полках – только мыло. Даже тогда – жили.
Торо! х.м., 50х20,2021 г.

2 место, Мехико 2024, «Объединены искусством» Международная выставка-конкурс.
Картина «Торо!» наполнена не просто драматизмом боя, но и глубокой символикой. На первый взгляд – сцена корриды: тореро в решающий момент и бык, чья мощь угасает. Но вглядевшись, понимаешь: это не просто бой человека и животного, а столкновение духа и плоти, разума и судьбы, культуры и хаоса.
Бык – архетип силы природы, первобытной и безжалостной. Его массивная тёмная фигура словно воплощает неизбежность: время, смерть, страдание. Изломанные ноги и потухший взгляд становятся метафорой конца, предопределённости, от которой нет спасения.
Тореро – образ воли и сознания, хрупкий, но устремлённый к высшему. Его движения изящны, почти воздушны: он не столько убивает, сколько совершает ритуал, танец, в котором заключён смысл человеческого существования. Здесь ощущается трагическая красота: человек способен одолеть зверя, но не победить саму смерть.
Красное полотно – символ крови и страсти, но и знак самой жизни, энергии, делающей схватку возможной. Оно горит, разделяя пространство между человеком и зверем, словно грань между хаосом и порядком.
За холмами Андалузии угадывается вечность, равнодушная к драме. Зритель понимает: «Торо!» – это не о победе, а о судьбе. В поединке нет окончательного торжества, есть лишь мгновение, когда человек, вооружённый духом, смотрит в лицо хаосу.
Так картина превращается в аллегорию жизни: мы все – тореро на арене времени, и каждый шаг – попытка придать форму неизбежному, одержать пусть краткую, но величественную победу над хаосом.
Доставка Весны х.м 127х102,2022 г.

3 место Санкт-Петербургская неделя искусств, Июль СПБ 2022.
Эта картина – философская аллегория мира весной 2022 года, где каждый элемент превращается в символ бытия.
Доставщик «всего» на нелепом велосипеде с квадратными колёсами – образ человечества, вынужденного двигаться вперёд по зыбкой нити судьбы, даже если движение кажется невозможным.
Его рюкзак с надписью «Весна – 22» несёт надежду на обновление, но путь к этой весне полон противоречий и опасностей.
Внизу COVID предстаёт не просто болезнью, а коронованным символом власти над людьми. Вокруг него – хоровод разноцветных фигур, олицетворяющих все континенты, объединённые общей уязвимостью. Их круг – и радость, и обречённость, а вирус угрожает сломать «дорогу жизни».
Фигура за столом, готовящаяся к войне, отражает трагедию человеческой природы: под видом благих намерений совершаются разрушительные поступки. Борьба за власть и раскалывание мира, словно арбуза, намекают на иллюзию контроля: человек верит, что управляет судьбой, но на деле разрушает её гармонию.
И только хамелеоны продолжают вечный ритуал жизни и любви. Их слияние – символ силы природы, равнодушной к человеческим тревогам. Для неё нет войн, вирусов и амбиций: она живёт в собственном цикле, неизменно даря обновление.
Так полотно превращается в размышление о противостоянии трёх начал: человеческой жажды контроля, общей уязвимости и вечной силы природы. Весна здесь символ возрождения, приходящего не благодаря человеку, а вопреки ему.
Апрельский гидрокостюм. х.м. 120х100,2022

I место, Санкт-Петербургская неделя искусств, июль 2022
Метафизическая фантазия, где соединяются мечта, женская чувственность и свобода духа. На первый взгляд – сюрреалистический образ русалки, возлежащей на красном ковре-самолёте среди облаков. Но за сказочной эстетикой скрыт философский подтекст – размышление о границах и их преодолении.
Русалка расколота между мирами: земным и водным, человеческим и мифическим. Здесь она обретает новую двойственность – морская и небесная одновременно. Весна становится символом пробуждения не только телесного, но и духовного: жажды выхода за пределы привычного, стремления к свободе, пусть даже в иллюзии. Красный ковёр с грубыми стежками символизирует и полёт, и искусственность. Это не сказочный ковёр-самолёт, а рукотворное чудо – попытка сконструировать путь к иным измерениям. Он хрупок, но держится в небе, как держится мечта.
Рядом – бутылка и белый кот, спутники одиночества и лёгкой эйфории. Всё вокруг говорит о грани между реальным и фантастическим, сознанием и сном. Лёгкое опьянение героини – не только от вина, но и от самой возможности быть вне рамок, вне пола, вне гравитации, вне обязанностей.
Картина задаёт вопрос: кто мы, когда мечтаем? Что остаётся от нас без оболочки и условностей? «Апрельский гидрокостюм» превращается в метафору весенней трансформации: героиня не просто русалка, а женщина, жаждущая стать больше – стихией, ветром, возможностью.
Это поэма о свободе, написанная красками.
Памятный вечер. х.а.,10х15,2024 г.

3 место, Москва 2024 «Мир абстракций» Международная выставка-конкурс современного искусства.
Эта картина предстает пред зрителем не только как абстрактное переплетение красок, а эмоциональный срез памяти, где каждая линия и пятно цвета становятся следами пережитого. В этом хаосе отражена энергия вечера, который начался как праздник близости и доверия, но завершился разрывом, оставившим после себя тревожную тишину и неразрешимые вопросы. Яркие всполохи красного и жёлтого, будто вспышки страсти и тепла, постепенно тонут в тяжёлых зелёных и тёмно-синих потоках, словно в удушающем море сожалений.
Картина воплощает то состояние, когда время перестаёт быть прямой линией и превращается в вихрь воспоминаний. В нём перемешаны радость и боль, свет и тень, надежда и пустота. Художник словно фиксирует миг, когда человеческая душа оказывается на границе между прошлым и будущим, между решимостью идти дальше и желанием удержать уходящее.
Здесь нет чётких форм, потому что любовь, как и разлука, не поддаётся ясным очертаниям. Она живёт в переливе, в переходах, в зыбкости. В каждом мазке чувствуется борьба между тем, что было, и тем, чего уже не вернуть. Это внутренний диалог: правильным ли был выбор, можно ли было поступить иначе, и есть ли вообще «правильные» решения в лабиринте человеческих чувств? Таким образом, «Памятный вечер» становится не только образом личной драмы, но и философским размышлением о хрупкости связей, о конечности всего земного и о том, что каждый конец одновременно рождает начало – новое, ещё неведомое, но уже готовое войти в жизнь.
Праща. х.а.,127х100,2024 г.

Перед нами – не просто момент ожидания битвы, а сама драматическая пауза, в которой сосредоточена суть человеческой судьбы. Давид ещё не вступил в схватку с Голиафом, но именно в этом мгновении решается больше, чем в самом броске. Картина фиксирует не удар, а внутренний выбор, момент тишины перед бурей, где решается исход не только поединка, но и история народов.
Фигура героя изображена напряжённой и одновременно уязвимой. Он собрал пять камней, но они пока безмолвны. Праща – не оружие, а символ веры, доверия к собственной решимости. Здесь важно не физическое превосходство, а духовная концентрация. Давид словно созерцает предстоящую победу не глазами, а внутренним зрением, взвешивает не камни в руке, а вес собственной судьбы. Голиаф, огромный и страшный, пока ещё в тени. Но истинный гигант в этой сцене – сама судьба, вырастающая над человеком, проверяющая его смелость. Давид оказывается лицом к лицу не только с врагом, но и с собственной хрупкостью. Победить можно лишь тогда, когда страх трансформируется в веру, а сомнение – в действие.
Таким образом, картина «Праща» – это метафора вечного противостояния малого и великого, слабого и сильного, но главное – внутреннего и внешнего. Битва ещё впереди, но именно в этой предбитийной тишине заключено самое важное: готовность человека выйти за пределы собственной слабости и доказать, что победа рождается прежде всего в духе, а уже потом в действии.
Эстафета. х.м.,120х100,2022 г.

Эстафета в спорте всегда была образом единения и преемственности: бегущий передаёт палочку другому, и в этом жесте заключено доверие, общее усилие, общее время. Но если выйти за пределы спортивного смысла, этот акт становится символом самой истории – бесконечной передачи власти, идей, ответственности и даже иллюзий.
На картине нет лёгкости спортивного бега, здесь доминирует тяжесть рук, напряжение тела, ощутимая материальность момента. Человек словно склоняется над самой сутью передачи, придавая этому действию метафизический вес. Власть – не палочка из лёгкого металла, а груз, обжигающий руки. Она не передаётся беспрепятственно: она вырывается, сопротивляется, превращается в борьбу между тем, кто отдаёт, и тем, кто принимает.
Эта «палочка» – символическое ядро. Передача власти в истории человечества редко бывает чистой и честной. Чаще она – перекладывание того же самого из одной руки в другую, лишь смена положения, а не сути. Народ ждёт обновления, а получает лишь перестановку. Правая рука становится левой, левая – правой, но сам круговорот власти остаётся замкнутым.
И всё же в этом движении скрыта надежда. Каждый акт передачи – шанс для изменения, возможность для нового пути. Но реализуется ли он? Или всё снова сойдёт к механике – от руки к руке, от тела к телу, от эпохи к эпохе?
Картина напоминает: власть – это не предмет, который можно бесконечно перекладывать. Это живое пламя, которое либо разгорается и освещает мир, либо обжигает и уничтожает. Вопрос лишь в том, как с ним обойтись и кто окажется достойным держать его в руках.
Бабий Яр – 33771. Х.м.,80х60,2023 г.

История человечества хранит раны, которые не заживают. Бабий яр – не просто овраг под Киевом, а символ бездны, в которую человек способен низвергнуть самого себя. 28 сентября 1941 года здесь оборвались жизни десятков тысяч евреев, и кровь текла по земле, превращая её в реку страдания. Это совпало с Йом Кипуром – днём искупления, когда евреи обращаются к Богу в поиске прощения и надежды. Но в тот день небо молчало, и вместо молитвы в воздухе звучали выстрелы.
На картине раввин возвещает ритуальным шофаром о наступлении священного дня, но звук его рога тонет в гуле войны. Овраг становится красной раной земли, трещиной, по которой течёт кровь убиенных. Фигура врага растворяется в небе, искажаясь в профилях: Моисея – как символа народа, несущего веру и закон, и лица фашизма – как олицетворения бездушной машины уничтожения. В этом переплетении образов рождается напряжение: вечное противостояние света и тьмы, духа и звериной жестокости.
И всё же над этой бездной летит лебедь – символ надежды и чистоты. На его шее – оберег Хамса, «рука Мириам», знак защиты, обращённый к высшим силам. Лебедь уносит память, но и обещает возвращение: даже после самой тёмной ночи остаётся возможность для света.
Картина напоминает: Бабий яр – это не только трагедия прошлого, но и предупреждение будущему. Каждый овраг истории может наполниться кровью, если человек забудет, что святость жизни выше любых идеологий. Надежда, покидающая землю, всегда может вернуться, если её ждут.
Похищение сердца. х.а., 36х46,2024

Любовь – это не всегда гармония и встречное движение. Чаще она предстает как борьба, в которой один стремится завладеть тем, что по своей природе не принадлежит никому. Сердце другого человека – это не трофей и не вещь, которую можно удержать силой или хитростью. Но, ослеплённые страстью, многие пытаются совершить именно это – похищение.
На картине фигура, изогнутая в мучительном экстазе, прижимает к себе сердце, вырванное из контекста жизни. Оно стало добычей, предметом обладания, но не источником счастья. В этом акте заключена вся трагичность: похититель получил то, чего жаждал, но вместе с этим потерял главное – ответность, доверие, взаимность. Ведь сердце, захваченное силой, не бьётся в такт, оно остаётся чужим.
Вопрос, который встаёт перед зрителем, сродни гамлетовскому: возможно ли завоевать любовь, не оставив за другим права на свободу выбора? И если сердце украдено, станет ли оно твоим? Или оно превратится в тяжёлый груз, напоминающий о насилии над чужой душой?
Эта работа говорит о том, что любовь нельзя навязать, нельзя присвоить. Она рождается лишь там, где есть встречное движение, готовность обнажить себя и довериться другому. Похищение сердца – это иллюзия победы, за которой всегда стоит поражение. Настоящая победа – это не завладеть, а быть избранным. И в этом хрупком выборе раскрывается величайшая тайна человеческих отношений.
Холодная. х.м., 33х38,1990 г.

Иногда мы встречаем людей, которые кажутся противоречием самим себе. Они сияют, искрятся жизнью, их смех чист и звонок, их движения полны лёгкости и внутренней свободы. Они словно несут в себе неугасимый огонь, обогревающий всё вокруг. Но рядом с ними всегда существует кто-то, кто видит иначе – и произносит слово, ранящее глубже, чем любое обвинение: «Ты холодная».
В этом портрете я попытался уловить парадокс: лицо, окрашенное теплом, словно огнём заката, и глаза, наполненные хрупкими цветами – символами нежности, чистоты и одновременно незащищённости. Её взгляд не остекленел, не угас – наоборот, в нём живут детская искорка и доверие миру. Но слово, сказанное близким человеком, наложило на её образ печать – она воспринимается «холодной».
Что значит эта холодность? Возможно, это неспособность раствориться в чужой воле, сохранить независимость, не позволить страсти уничтожить себя. Быть «холодной» иногда значит быть сильной. Ведь настоящий жар – внутренний, и он не всегда проявляется в привычных формах ласки. Он может быть скрытым пламенем, которое согревает на расстоянии, не обжигая.
Эта женщина – образ того, как нас видят другие и как мы видим себя. Между этими взглядами всегда существует пропасть. Она не стала спорить, не пыталась доказать обратное – её сила в молчаливом сиянии, в способности жить в гармонии с собой. Парадоксальная «холодность» здесь превращается в метафору: иногда самые тёплые люди кажутся холодными лишь потому, что их свет не совпадает с ожиданиями других.
Лавровый лист. х.м,30х40,2024 г.

С древности лавровый венок был символом славы и признания: его возлагали на головы победителей и героев. Но здесь мы видим лишь один лист – скромный, хрупкий знак, который заменяет венец. На портрете – юноша, уже не совсем юный: его взгляд выдаёт опыт и пройденный путь. Возможно, он знал маленькие победы – над собой или обстоятельствами. Но вместо венка на его голове только лист, словно напоминание о том, что мечта о великом триумфе остаётся недостижимой.
В этом образе нет поражения, а есть философия взросления. Молодость питается амбициями, но со временем приходит осознание: жизнь редко дарит венки, чаще – отдельные листья. Тогда рождается разочарование – время уходит, а громкой славы нет. Однако один лист – не пустота. Это знак смирения и понимания: настоящая ценность не в овациях толпы, а в тихом осознании пути. Герой картины задумывается об этом: его лицо закрыто, он отстраняется от мира, прислушиваясь к себе. Возможно, он понимает, что венок ему не достанется, но прожитые годы, опыт и маленькие победы – уже его невидимый венец.
Картина становится размышлением о судьбе человека, хрупкости амбиций и неизбежности времени. Лавровый лист превращается в символ не славы, а принятия: величие может жить в тишине, а не в громком триумфе.
Заплыв. х.м. 91х61,2023 г.

Иногда человеку даётся редкий дар – остаться наедине с самим собой. Мой друг, живущий в тихом, живописном краю, однажды оказался в этом состоянии: его супруга уехала отдыхать к далёким турецким берегам, а он остался один рядом с любимым озером. Но это одиночество не стало для него пустотой или тягостью. Оно превратилось в зеркало, в котором он увидел собственную жизнь, собственное тело и душу. Он начал ежедневные заплывы – не ради рекордов и славы, а ради внутреннего освобождения. Каждое движение в воде становилось не только физическим усилием, но и духовным опытом. Вода принимала его, очищала от суеты и лишних мыслей, возвращала к самому простому и самому важному.
Он позволил себе быть искренним и свободным, без показного, без маски. Даже слабости перестали казаться грехом – напротив, они становились частью человеческой полноты. И чем дольше он плыл, чем глубже вдыхал свежий воздух уединения, тем яснее чувствовал, что жизнь сама по себе – подарок, который не требует заморских берегов или искусственных развлечений.
Когда супруга вернулась, она увидела в нём перемену: он словно стал моложе, стройнее и живее, чем раньше. Его взгляд светился, движения были лёгкими, а слова – добрыми. Он открыл для себя простую истину: счастье не всегда нужно искать где-то далеко. Иногда оно рождается рядом, в отражении неба в родном озере, в ритме собственного сердца и в бесконечном разговоре с водой. Ведь не всегда нужны нам Турция или Африка – достаточно лишь того, чтобы услышать самого себя и позволить душе выплыть к свету.
Трансформация вопроса. Х.м. 40х50,2023 г.
3 место, Москва 2023 год, «Всёчество» Международная выставкаконкурс арт-идеи XI века
Жизнь неустанно ставит перед человеком и человечеством вопросы. Они возникают внезапно, как дыхание ветра или как шёпот внутреннего голоса: простые и сложные, будничные и судьбоносные, социальные и интимные, философские и детские. Одни из них звучат как загадки, требующие мудрости и терпения, другие – как вызовы, требующие смелости и действий. Но далеко не всегда на эти вопросы находится ясный и честный ответ. Человек склонен обходить острые углы, прятаться за привычкой, уходить от напряжённого поиска. Иногда он игнорирует вопрос, надеясь, что время само всё расставит по местам. Но мир устроен иначе: то, что не разрешено, не растворяется в небытии. Вопросы, оставленные без внимания, словно семена, прорастают вглубь. Они медленно трансформируются, накапливают силу, меняют свою форму. И то, что когда-то было лишь тихим сомнением или робкой просьбой, оборачивается проблемой, давлением, а затем – конфликтом. В безответности рождаются трещины, которые расширяются до бездн. Из маленьких умолчаний вырастают большие недоразумения, из невысказанных слов – отчуждение, из неразрешённых противоречий – войны. Вопрос, не нашедший ответа, превращается в острие, которое ранит уже не только задающего, но и весь мир вокруг. И именно в этой трансформации скрыта великая трагедия и мудрость: пока мы ищем и задаём вопросы, у нас есть шанс на рост, понимание и свет. Но стоит нам отвернуться от них, как сами вопросы превращаются в ужасы, с которыми нам всё равно придётся столкнуться лицом к лицу.
Прыжки в Пицунде. х.а. 30х40,2023 г.

Эта работа родилась случайно, хотя, наверное, случайностей в искусстве не бывает. В Пицунде я вышел к морю писать этюд: солнце, шум волн, сотни купальщиков вокруг. Но в какой-то момент привычный взгляд устал от толпы и палитра пошла иным путём – свободным, спонтанным, без замысла. Я словно сам растворился в бликах воды, в искрах брызг, в танце солнечных лучей. И вдруг на холсте появилась радуга.
Для меня это было не просто природное явление. Радуга стала образом очищения, моментом, когда человек выходит за пределы привычного. Я увидел, как в ней купаются люди – обнажённые, как в первозданном раю, свободные от условностей и суеты. Их прыжки в морскую гладь стали символом радости жизни, возвращения к детской лёгкости, к беззаботной игре, где тело и душа едины.
Я понимаю, что зритель может видеть здесь разное: кто-то улыбнётся и вспомнит лето, кто-то почувствует протест или вызов, а кто-то найдёт метафору пути между земным и небесным. Для меня же эта картина – не манифест и не иллюстрация. Это память о миге, когда я сам оказался свидетелем чуда: радуга вдруг стала мостом, соединяющим море и небо, человека и вечность. В этих прыжках – мой личный гимн жизни. Радость, простая и чистая, которую не объяснить, а только прожить.
Беркутчи-дрон. х.а 40х50,2025 г.