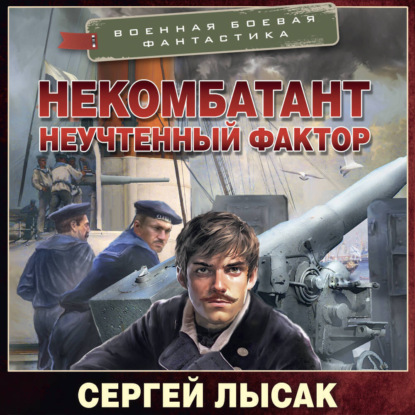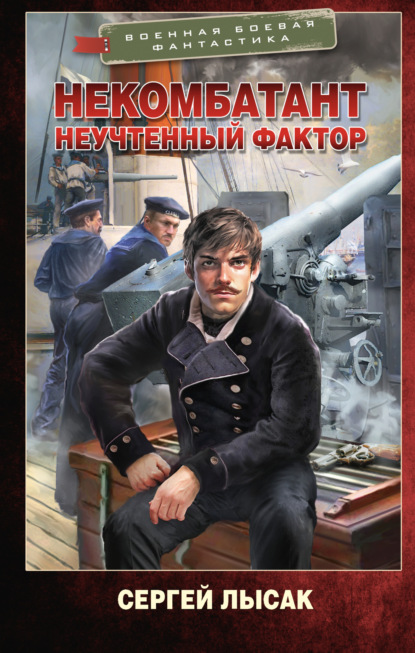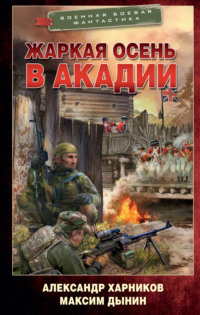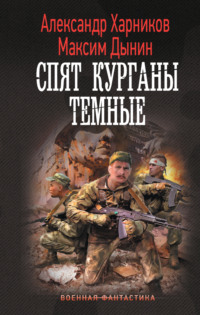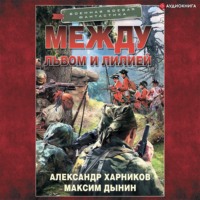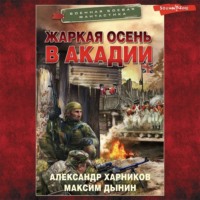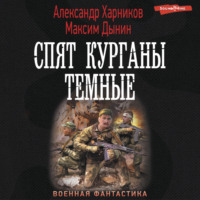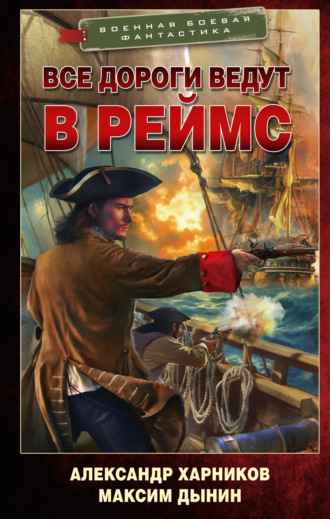
Полная версия
Все дороги ведут в Реймс
То, что англичане и французы постоянно сражаются друг с другом на американском континенте, ни для кого не было секретом. По всем нашим расчетам, французы в этой колониальной войне должны были потерпеть поражение и уйти из своих заморских владений. Но неожиданно в противоборство старых соперников вмешалась некая третья сила. Это были русские, которые, взявшись неизвестно откуда, наголову разбили армию генерала Брэддока на какой-то реке под труднопроизносимым на немецком языке названием Мононгахела. Практически одновременно англичане сумели захватить французскую часть местности под названием Акадия – это где-то на востоке Нового Света. И, судя по информации, полученной от коммерсантов, торговавших в тех краях, русские согласились помочь французам отвоевать эти земли – по слухам, в обмен на некие острова, на которых они намеревались создать свою колонию.
Именно поэтому, после того как мы узнали о случившемся, в Новую Францию отправился наш агент по имени Генрих Краузе. От него мы еще пока не получили никаких известий, что немудрено – моря в это время года очень бурные, а залив Святого Лаврентия, находящийся по пути к столице Новой Франции, городу Квебеку, к тому же замерзает. И тогда не только замирает торговля с этими землями, но и становится практически невозможна передача любой информации.
И вот недавно пришла новость от нашего агента в Париже – французы сумели-таки послать корабль из незамерзающего порта под названием Луисбург на самом востоке Акадии, и это судно благополучно добралось до берегов Франции. Оно привезло радостную весть о грандиозной победе новосозданной Акадской армии под командованием русских в этой самой Акадии.
По слухам, русские создали эту армию из французов, обучили ее доселе невиданным способам ведения войны и вооружили ее, помимо всего прочего, более дальнобойным и точным оружием. Мне неизвестны какие-либо революционные разработки русских в этой области, так что к этой информации я отнесся несколько скептически, но кто знает… Ведь факт победы, судя по всему, налицо – и это после позорного июньского разгрома находившихся в Акадии регулярных французских войск.
Еще было известно, что привезен текст договора, подписанный только что назначенным губернатором Новой Франции, Пьером де Риго, маркизом де Водрёй де Каваньияль, и русскими, а также документ о капитуляции англичан на всей территории Акадского полуострова. Далее – но это уже было на уровне слухов – рассказывали, что, согласно этому документу, русские отдали французам всю материковую Акадию в обмен на два острова, на которых они и устроили свою новую колонию. Так ли это, мне достоверно неизвестно, но я полагаю, что дыма без огня не бывает.
Фриц, обеспокоенный всем происходящим, велел генералу Кристофу Манштейну, родившемуся и выросшему в России, разузнать все, что можно, об этих «русских американцах». Меня же, имевшего счастье пробыть несколько лет послом Пруссии в Санкт-Петербурге, он пригласил для того, чтобы задать несколько вопросов.
– Карл, – сказал мне король, – из того, что мне стало известно, я сделал вывод о том, что за горсточкой русских, неожиданно объявившихся в Америке, стоит одна из влиятельных в России партий. Ну не верю я в то, что все, произошедшее в тех краях, случайно. По описанию очевидцев те русские – отменные вояки, имеющие немалый боевой опыт. И вооружены они весьма сложным и качественным оружием, которого нет ни у французов, ни у англичан.
Скажи мне, кто при дворе императрицы Елизаветы мог снарядить и вооружить этих бойцов, наводящих сейчас страх и ужас на британские колониальные войска?
Да, вопрос, который задал мне мой друг детства, был для меня непростым. Чуть подумав, я попытался объяснить королю положение дел в русских партиях, боровшихся за влияние на императрицу Елизавету.
– В России всех политиков можно разделить условно на две партии. Первую возглавляет канцлер Бестужев, которого я считаю одной из сильнейшей фигур, стоящих у императорского трона. Но канцлер – англофил, поэтому маловероятно, что он станет действовать против своих покровителей.
– Да, но я слышал, что Бестужев алчен до безобразия и за золото может предать кого угодно, – заметил Фриц.
– Не спорю, что канцлер продажен, – согласился я. – Но мои агенты при русском дворе ничего не сообщали мне о том, что французы попытались его перекупить. Бестужев к тому же много пьет и потому не умеет держать язык за зубами. Думаю, что он давно бы уже разболтал всем о пансионе[5], который пообещали бы ему агенты французского короля.
– А кто возглавляет вторую партию? – с любопытством спросил король.
– Вторая партия – это партия вице-канцлера Воронцова. Вот он-то вполне мог бы собрать небольшую армию, которая, подобно Кортесу, отправилась на завоевание Америки. Только вот…
– Говори, говори, Карл! – нетерпеливо воскликнул король.
– Воронцов – приятный в общении человек, который, правда, довольно скверно говорит по-французски и по-немецки. К тому же он ненавидит Бестужева и будет весьма рад, если тот свернет себе шею в придворных баталиях. Воронцов, состоявший при дворе тогда еще великой княжны Елизаветы Петровны, стал одним из руководителей дворцового переворота, который и возвел дочь Петра Великого на российский престол. За что он был ею обласкан и стал графом. Не назову его гением, однако отмечу, что он полон здравомыслия, а ум его если и не блестящий, то справедливый и основательный. Он честолюбив, вот только есть у него один недостаток – Воронцов робок и боязлив. Поэтому я считаю, что он вряд ли самостоятельно решился бы на столь рискованный поступок.
– Гм, Карл, – покачал головой король, – а может быть, среди русских военных нашелся некто, кто мог бы организовать и профинансировать такую экспедицию?
– Пожалуй, я знаю в России лишь одного такого человека, который мог решиться на подобную авантюру. Только он сейчас не у дел.
– Ты имеешь в виду бывшего шефа генерала Манштейна, фельдмаршала Бурхарда Миниха? – спросил Фриц. – Знаешь, я бы совсем не удивился, узнав, что за русской экспедицией в Америку стоит именно этот человек. Только ведь он был приговорен императрицей Елизаветой к смертной казни, которую в последний момент заменили ссылкой в Сибирь.
– Да, – согласился я. – Как мне стало известно, Миних живет сейчас в местах, где дикие кочевники пасут стада своих оленей. Но он здоров и бодр. Только возможности как-либо влиять на российскую политику у него нет. Других же русских военачальников, кто по собственной инициативе решился бы помочь французам изгнать британцев из захваченных ими владений короля Людовика, я не знаю.
– Ну что ж, Карл, – вздохнул король. – Будем вместе с тобой ожидать новых известий из этой Акадии. Как мне кажется, они еще немало нас удивят. Надо отдать должное русским – они умеют совершать дерзкие поступки, на которые не решились бы многие из европейцев. Если ты получишь новые известия о «русских американцах», то немедленно сообщи их мне. Я готов выслушать тебя в любое время дня и ночи.
1 марта 1756 года. Атлантический океан. Борт французского военного корабля «Жанина». Кузьма Новиков, глава посольства Русской АмерикиВот и сподобил меня Господь снова выйти в открытое море. Много лет назад я, совсем тогда еще несмышленыш, отправился в Новый Свет, сбежав из французского плена. А теперь вот возвращаюсь снова во Францию, но уже не как беглец, а как человек уважаемый, с кем вежливо раскланивается при встрече маркиз Дюкень, бывший губернатор Новой Франции.
И возвращаюсь я домой не один-одинешенек, а с Кристиной, красавицей-женой. Правда, и годочков мне за сорок, седой уже, но духом пока силен, и, даст Бог, послужу еще России-матушке. Вот только не знаю, как у меня все это получится. Времена у нас дома совсем другие, многих моих сверстников уже, пожалуй, и в живых-то нет. Ну ничего, с Божьей помощью разберемся как-нибудь.
Маркиз Дюкень меня успокаивает, дескать, встретить нас во Франции должны хорошо. Все же мы побили в землях заморских британское войско, отвоевали захваченные англичанами города и селения. Уж сам-то маркиз в этом знает толк. Он смолоду служил на флоте, как его отец и дядя. У него есть чин флотского капитана, так что в случае чего он может командовать кораблем. Во Франции, куда его отозвали с поста губернатора, маркизу обещали дать под начало Тулонскую эскадру.
Он был чуть старше меня, но внешне выглядел даже помоложе. Да и ростом его Господь не обидел. Сложения он был крепкого, осанку имел гордую, и держал себя скорее несколько высокомерно. Но мы с ним быстро нашли общий язык. К тому же он хорошо помнил, чем он был нам обязан.
В разговорах со мной маркиз Дюкень честно признался, что не все во Франции готовы сражаться, себя не жалеючи, с англичанами, которые, словно бульдоги, вцепились в заморские земли, принадлежащие королю Людовику. Многие из дворян и вельмож считали, что ни к чему королевству тратить большие деньги на содержание этих территорий. Кому они нужны, если там нет ни золота, ни драгоценных камней? То ли дело Мартиника, откуда плантаторы ввозили во Францию сахар и кофе, или Гваделупа, которую власти предержащие в Париже готовы были обменять с британцами на Новую Францию[6].
Маркиз Дюкень рассказал мне, что в Париже он будет решительно отстаивать интересы Новой Франции.
– Мой друг! – восклицал он. – Разве можно отдавать практически без боя такие огромные территории? Ведь даже если они сейчас не приносят большую прибыль, то это совсем не значит, что в ближайшем будущем эта земля станет кормилицей и родным домом для десятков тысяч наших бедняков. Пашни в старой доброй Франции истощаются, а население быстро растет. Я уже не говорю о несметных рыбных стаях, которые водятся в море у побережья Акадии! Нет, было бы просто преступлением добровольно отдать все это британцам…
– Да, но мы тоже хотим получить из рук короля Франции кое-какие земли, – деликатно заметил я. – Впрочем, права и интересы подданных его величества Людовика XV будут нами учитываться. К тому же новосозданная армия Русской Америки станет вместе с французскими войсками сражаться против нашего общего врага.
Маркиз соглашался со мной, но, как мне казалось, его все же терзали некоторые сомнения. Он пару раз намекнул мне, что в Париже среди вельмож, стоящих у трона французского монарха, нет полного согласия. Несколько партий пытаются уговорить короля принять решения, которые были бы выгодны только их сторонникам. А насколько они будут выгодны Франции – это интересовало приближенных короля в последнюю очередь.
– Мой друг, – говорил мне маркиз Дюкень, – вас надо непременно познакомить с герцогиней де Помпадур. Мнение этой женщины и сейчас очень важно для короля. Она умна, приятна в обхождении и будет рада вас выслушать. Если же вы при этом сможете убедить ее в пользе нахождения русских в Новой Франции, то считайте, что половина дела сделана. Хотя…
Я заметил тревогу, мелькнувшую на лице маркиза, и осторожно поинтересовался, не грозит ли нам неприятностями недовольство противников мадам де Помпадур.
Моему собеседнику, как я понял, не очень хотелось рассказывать мне о несогласии, царившем среди французских вельмож. Он обещал мне более подробно поведать обо всем, когда наш корабль достигнет берегов Франции. Видимо, у него на родине не все было так просто. Как сообщил мне маркиз Дюкень, в Европе в самое ближайшее время должна была начаться большая война.
Из рассказов Хаса я знал про эту войну, получившую название Семилетней. К сожалению, русские войска оказались втянутыми в нее, и хотя в сражениях они и проявили немалую доблесть, победив своих врагов, война сия оказалась абсолютно бесполезной для России. Чтобы ее предотвратить, мы и отправились в долгое и опасное путешествие. Вот только чем оно закончится?..
Глава 2. Деньги решают всё!
1 марта 1756 года. Бузонвилль, Лотарингия. Шарль-Франсуа де Брольи, маркиз де Рюффек, посол Франции в Речи ПосполитойВ начале февраля я получил в Варшаве с нарочным письмо от принца Конти, моего непосредственного начальника по «Секрету короля». В нем он приказал мне оставить вместо себя своего заместителя, а самому безотлагательно направиться в городок Бузонвиль на севере Лотарингии, где мне надлежало поселиться под чужим именем в трактире «Цур Зонне». И, ничем не привлекая к себе внимания, терпеливо ждать его дальнейших указаний.
Я боялся, что с последним могут возникнуть трудности, но, как оказалось, мои опасения были напрасными. Город этот немецкоязычный, и местные называют его Бузендорф. В городе по-французски практически никто из жителей не говорил, и местным немцам не было никакого дела до приехавших французов, коих они считают лотарингцами из французской части герцогства. Ведь другие гости этого города редко появляются в здешних краях. Если бы я не знал немецкий язык, то жить мне здесь было бы очень сложно. Тем более что между собой обитатели Бузонвиля говорят на особом диалекте, который, я полагаю, даже немцы из близлежащих земель вряд ли поймут.
Трактир «Цур Зонне», хоть и считался лучшим в городе, но оказался самым настоящим клоповником, каких еще надо было поискать. Однако приказ есть приказ, и я, назвавшись шевалье де Брюлем из Вердена, провел в этой дыре, где из достопримечательностей имелось разве что небольшое аббатство Святого Креста Господня, незабываемые девять дней. Каждый день я ходил на службы (благо они были на латыни, как и везде в местах, где исповедуют истинную веру), гулял по окрестностям, давился грубой местной едой, с трудом сдерживая позывы рвоты… Но сегодня служанка наконец-то объявила, что меня желает видеть мой кузен, шевалье де Куртуа, и что он ждет меня в отдельном кабинете.
Я ожидал найти там кого-либо из приближенных принца, но, к моему величайшему удивлению, моим «кузеном» оказался он сам. И, что было для него совсем несвойственно, он сразу же перешел от слов к делу.
Я впервые узнал от него, что некие русские помогли нам победить англичан в Новом Свете на какой-то забытой Господом реке Мононгахеле, а затем и отвоевать Акадию у англичан. В заключение своего повествования принц с сардоническим выражением на лице заявил:
– Только зачем нам все это нужно? Ведь земли эти находятся за тысячи лье от нас, и освоение их ляжет тяжким бременем на нашу и без того бедную казну. К тому же населения и, следовательно, налогоплательщиков там практически нет. И из-за того, что мы любезно приняли от этих московитов помощь, Луи считает, что мы им чем-то там обязаны.
– Вы правы. Мне кажется, что Франция должна ограничить свои колониальные владения Карибами и теми территориями, которые принадлежат нашей Ост-Индской компании. Даже Новая Франция нам особо не нужна.
– Мое мнение об этом примерно такое же, как и ваше. Так вот. Я договорился с англичанами, и они готовы в обмен на возвращение им Акадии и земель у истоков реки Огайо – а именно там находится эта никому не нужная Мононгахела – гарантировать неприкосновенность наших границ на Карибах, в Новой Франции и в Индии. И даже оставить нам Луисбург для снабжения наших владений в Новом Свете.
– Но его величество, как я понял, настроен против этого? – осторожно спросил я.
– Да, против. Но его сын – внук Станислава Лещинского. И если он придет к власти, то, есть у меня такая надежда, прислушается к голосу разума и крови и не позволит русским водить себя за нос.
– Значит…
– Вы меня поняли. И меня не интересует, как именно ЭТО произойдет. Вот только… Как раз перед моим отъездом сюда я получил весточку, что вместе с маркизом Дюкенем в Париж должна отправиться русская делегация, и что они будут в Ла-Рошели примерно в середине или конце марта.
– Вот, значит, как. И их… тоже?
– Пока не нужно. А вот было бы неплохо, если смерть Луи оказалась привязана по времени к прибытию этой делегации в Версаль, чтобы в случае чего можно было бы свалить все на них. Никто же разбираться не будет – иностранцы, да еще из недружелюбно настроенной к Франции нации. А на всякий случай…
И он протянул мне увесистый кожаный мешочек. Я развязал его шнурки, заглянул внутрь и увидел золотые гинеи явно британской чеканки.
– Это мне передал один… впрочем, не будем об этом. Именно такими деньгами неплохо бы подкупить тех, кто окажет нам… эту услугу.
Я усмехнулся про себя – хоть у принца и без того прослеживались связи с британцами, но гинеи, чеканенные в Соединенном Королевстве, – это уж слишком очень ярко выраженный английский след.
– А что произойдет, если его новое величество… тоже не оправдает наших надежд?
– Тогда, мой дорогой маркиз, я не знаю, что и делать.
И он хитро посмотрел на меня.
– Я все понял, ваша светлость.
– Вот только… имейте в виду, что я не смогу прикрыть убийц ни одного величества, ни другого. Сами понимаете, посягательство на жизнь короля…
Вот, значит, как. Другими словами, делай, что я от тебя требую, а, если у тебя ничего не получится, или, если узнают, что виноват в убийстве короля ты, то я тебя знать не знаю. Ну что ж, мне не впервой попадать в такую ситуацию. «Секрет короля» – хорошая школа жизни.
– Я вас понял, ваша светлость.
– Тогда рад был вас увидеть, шевалье. Да, забыл сказать – желательно, чтобы вас никто больше не видел во Франции. А теперь прошу меня извинить – дела.
Он встал и вышел из-за стола, а я, подождав минут пять, вышел вслед за ним. Вечером я объявил трактирщику, что завтра по неотложным делам мне придется покинуть его гостеприимное заведение. Людей своих я оставил в соседнем Тионвилле, где они маялись от безделья уже десять дней. Пора бы им наконец заняться серьезным и опасным делом…
Историческая справка
«Джентльмен» из Африки
Разобраться в денежной системе Англии в XIX веке было весьма непросто. Дело в том, что в Британской империи существовали две системы денежных знаков и система мер стоимости, и эти две системы не совпадали, хотя и соответствовали друг другу.
Основные меры стоимости – это знаменитые фунты (pounds), шиллинги (shillings) и пенсы (pence). В одном фунте было 20 шиллингов, в одном шиллинге – 12 пенсов. Но самое интересное заключалось в том, что денежные знаки, имеющие хождение, были совсем другими.
Вся история на монетах
Один фунт как мера стоимости соответствовал банкноте в один фунт или монете, которая называлась совсем по-другому – не фунтом, а совереном (sovereign). А монета в полсоверена (half sovereign) была равна половине фунта, или десяти шиллингам. Четверть фунта или пять шиллингов равнялись монете под названием крона (crown). Два с половиной шиллинга – это полкроны (half crown), а два шиллинга – флорин (florin). Одному шиллингу соответствовала монета шиллинг. Но после монеты сикспенс (sixpence), равнявшейся шести пенсам, шла монета гроут (groat), равнявшаяся четырем пенсам. Дальше шли три пенса (threepence) и два пенса (twopence), один пенс как мера стоимости овеществлялся монетой пенни (penny), полпенса – полпенни (halfpenny или нередко ha‘penny), четверть пенса – фартингом (farthing), одна восьмая пенса – полфартингом (half farthing).
Но была еще одна монета, именуемая гинеей (guinea). Эта золотая монета, первоначально приравненная к двадцати одному шиллингу, и появилась она на свет в 1663 году. Отчеканена гинея была из золота, привезенного из африканской страны Гвинеи, откуда и появилось ее довольно экзотическое название.
Английский король Карл II Стюарт (правивший в 1660–1685 годах) придал этой монете статус основной золотой монеты королевства. Это была первая английская золотая монета, отчеканенная машинным способом. Вес гинеи колебался в пределах 8,3–8,5 г (содержание золота превышало 90 %), диаметр ее был 25–27 мм.
В обращении первоначально находились золотые монеты достоинством в половину гинеи, одну гинею, две гинеи и пять гиней. Позднее стали чеканиться еще более мелкие монеты: четверть гинеи и треть гинеи.
Очень часто в гинеях отражались происходящие в мире исторические события. Так, например, в 1703 году на гинее и полугинее, отчеканенных из захваченного у испанцев во время Войны за испанское наследство золота, под портретом королевы было вычеканено слово VIGO – место морского сражения, в котором англо-голландская эскадра разгромила франко-испанский флот и в качестве трофеев захватила несколько испанских галеонов, нагруженных золотом.
В 1707 году, после заключения унии Англии и Шотландии, изменилась легенда на реверсе монеты: теперь она гласила MAG BRI FR ET HIB REG (королева Великобритании, Франции и Ирландии). В данном случае речь шла о королеве Анне Стюарт, в правление которой и был заключен Акт об унии.
Некоторые монеты, отчеканенные в 1729–1739 годах, имеют отметку EIC под портретом монарха, обозначая происхождение золота, из которого чеканили монеты (East India Company).
В 1745–1746 годах были выпущены серебряные и золотые монеты, отчеканенные из металла, захваченного в результате пиратских рейдов британских военных кораблей в Тихом океане, а также разграбления южноамериканских колоний в период между 1741 и 1745 годами. Такие монеты были помечены надписью LIMA под портретом короля. В 1745–1746 годах было отчеканено золотых монет на 750 000, серебряных – на 130 000 фунтов стерлингов.
Стоимость золота относительно серебра постоянно менялась, потому соответственно менялась и стоимость гинеи в шиллингах. В 1680 году гинея уже приравнивалась к 22 шиллингам, позже стоимость достигла 23 шиллингов. Наконец, королевской прокламацией в декабре 1717 года гинея была снова официально приравнена к 21 шиллингу.
В 1799 году в связи с начавшейся войной против Франции чеканка гиней прекратилась. Продолжили чеканку только монет в полгинеи и треть гинеи. Взамен золотых гиней были выпущены банкноты.
В 1813 году, после некоторого перерыва, в последний раз был выпущен тираж 80 000 гиней. Эти деньги были предназначены для выплаты денежного довольствия английской армии герцога Веллингтона на Пиренеях. Потому эта монета и получила название «военной гинеи». На реверсе монеты был изображен орден Подвязки с девизом ордена: «Honi soit qui mal y pense» (наиболее точный перевод с французского: «Пусть стыдится подумавший плохо об этом»).
В то время драгоценные монеты были дефицитом, и гинея составляла 27 шиллингов в банкнотах. В 1817 году гинея в качестве основной золотой монеты была заменена золотым совереном. Сумма в 21 шиллинг до перехода Британии в 1971 году на десятичную денежную систему иногда называлась гинеей и применялась в качестве расчетной единицы.
С гинеей случилась и другая метаморфоза: видимо, из-за утраты гинеи положения дензнака, она как мера стоимости стала «джентльменской». Аристократы и джентльмены расплачивались в гинеях, фунты же были мерой стоимости для простолюдинов, подходившей для торговцев и неджентльменских товаров. В гинеях измеряли (и до сих пор иногда измеряют) стоимость предметов роскоши, назначались цены на землю. В гинеях, наконец, заключались пари.
Кстати, особенно на конных бегах, гинеи нередко используются до сих пор – как для ставок, так и для призового фонда; и даже скакуны иногда продаются за гинеи. Стоимость гинеи в таких случаях приравнивается к одному фунту пяти пенсам.
16 марта 1756 года. Ля-Рошель, Франция. Томас Форрестер Робинсон, помощник главы посольства Русской Америки к императрице Елисавете ПетровнеСчитается, что каждый отпрыск виргинской аристократии должен хотя бы раз посетить Европу, пока он не успел жениться и обзавестись собственной семьей. Я собирался это сделать после того, как окончу университет Вильяма и Мэри и отправлюсь в Лондон для врачебной практики. Между делом я надеялся провести два-три месяца в вояжах по Франции, Италии и, возможно, Голландии или германским землям. А вот в экзотические страны, такие как Польша, Россия или Турция, практически никто не добирался.
По независящим от меня причинам я покинул свой университет еще на первом курсе и был вышвырнут из родного дома. Вместо европейского турне я оказался в горах, где жили в основном индейцы. Потом мне довелось потрудиться разнорабочим у немцев и, наконец, послужить наемником в армии генерала Брэддока. Но теперь мне наконец-то улыбнулась удача, и я смотрел, как передо мной, посреди широкой равнины, открываются высокие башни и импозантные стены Ля-Рошели, главного французского порта, через который метрополия торговала с Новой Францией.
Больше месяца я провел на «Жанине», не слишком крупном, но достаточно маневренном и быстроходном корабле, на котором путешествовал бывший губернатор Новой Франции, Мишель-Анж де Меннвилль, маркиз дю Кень – или Дюкень, это как кому угодно. И наша делегация отправилась в Старый Свет с ним за компанию.
А состояла эта делегация из нас с Дженни, нескольких оружейников, кузнецов, врачей, а также дюжины солдат бывшей Акадской армии, оставшихся на службе Русской Америки. Ими командовал старший лейтенант Аластер Фрейзер, тот самый, который на четверть сасквеханнок. Вторым командиром был его тезка и кузен, сержант Аластер Фрейзер, на сей раз чистый шотландец. А всей нашей группой руководил мсье Кузьма Новиков, кстати, единственный русский в нашем посольстве, путешествовавший со своей супругой, Кристиной.