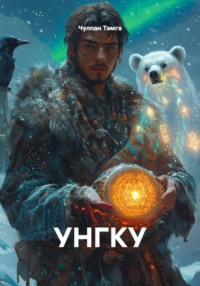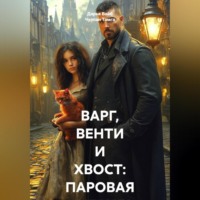Полная версия
Деревня пустых снов
На второй день лес сомкнулся окончательно. Дорога исчезла, растворившись в сети колеёв и троп. Деревья здесь были другими – не высокими и стройными, как в парках столицы, а корявыми, низкорослыми, с неестественно изогнутыми стволами и скрюченными ветвями, будто они веками росли под напором свинцового ветра. Их кора была тёмной, почти чёрной, и покрыта лишайником странного, серо-лилового оттенка, который, казалось, пульсировал в такт её собственному сердцебиению.
Воздух стал густым и тяжёлым, им было трудно дышать, словно легкие наполнялись не кислородом, чем-то влажным и спертым. Запах влажной гнили и прелых листьев смешался с чем-то ещё – сладковатым, приторным и оттого неприятным. Анна не могла его опознать. Он напоминал одновременно запах увядших цветов и лёгкий, едва уловимый шлейф разложения. Он въедался в одежду, в волосы, в лёгкие, становился частью её самой.
И тишина. Не мирная, умиротворенная тишина леса, а гнетущая, давящая, словно огромная, невидимая подушка, прижимающаяся к ушам. Птиц почти не было слышно. Лишь изредка раздавался резкий, одинокий крик, от которого по коже бежали мурашки. Кричало что-то одно и то же, и эхо подхватывало этот звук, разносило его по лесу, пока он не терялся вдали, оставляя после себя ещё более звенящую пустоту.
– Степан, – набралась она смелости снова, голос её звучал хрипло и сдавленно, – а что это за запах? Сладкий такой.
Ямщик обернулся, и его обветренное лицо исказила гримаса, в которой смешались брезгливость и нечто, похожее на страх.
– Болота, – буркнул он. – Тут их много. Топкие. С запахом. Лучше тебе, барышня, к ним не соваться. И в лес тоже.
– Почему? – не унималась она, чувствуя, как ледяная тяжесть нарастает под ложечкой.
– Потому что, – он резко дёрнул вожжами, объезжая огромную, казалось, бездонную лужу, – здесь свои порядки. Не столичные. Кто свои – те выживают. Кто чужие – те… – он не договорил, многозначительно хмыкнув. Этого хмыканья было достаточно, чтобы додумать остальное.
Они проезжали мимо очередной деревни. Вернее, того, что от неё осталось. Полтора десятка изб с заколоченными окнами, покосившимися крышами, пустыми глазницами дверей. Сквозь проломы в стенах виднелась мрачная чернота. На заросшем бурьяном околице стоял почерневший сруб колодца с оборванным ведром. Место было мертво. Абсолютно. Даже насекомые, казалось, облетали его стороной.
– А это что? – тихо спросила Анна, уже почти зная ответ.
– Дерёвня Быково, – безразлично отозвался Степан. – После Прошлой Зимы разбежались.
– Что за Прошлая Зима? Что случилось?
Ямщик резко обернулся, и в его глазах впервые мелькнуло что-то, кроме апатии – вспышка настоящего, животного страха. Его пальцы, сжимавшие вожжи, побелели.
– Не твоё дело! Не копай, слышишь? Не копай! – он почти крикнул эти слова, слюна брызнула из-за его желтых зубов, а потом он снова уставился на дорогу, замкнувшись в себе окончательно. Его спина стала похожа на каменную глыбу.
Анна откинулась на сиденье, сжимая в окоченевших пальцах ручку чемодана. Ледяная тяжесть поселилась под ложечкой, стала постоянным, ноющим чувством. Это было не просто равнодушие. Это был ужас. Глухой, немой ужас, который висел в самом воздухе, пропитывал землю, сочился из древесины покинутых домов. Он был заразен. Она чувствовала, как он проникает и в неё.
Третий день пути слился в одно сплошное, монотонное мучение. Дождь не прекращался. Грязь стала глубже, холод – пронзительнее. Анна перестала пытаться сохранять осанку. Она сидела, сгорбившись, кутаясь в мокрый, отяжелевший плащ, и безучастно смотрела на проплывающие мимо стволы. Её мир сузился до размеров повозки, до стука колёс, до спины ямщика. Мысли путались, в голове стоял гул, в котором смешивались воспоминания, страх и физическая боль. Она почти смирилась с тем, что это будет длиться вечно. Что столица, Академия, прежняя жизнь – всего лишь мираж, который ей когда-то привиделся.
И вот, когда она уже почти потеряла надежду, лес неожиданно расступился. Не так, как раньше, открывая поляну, а словно отпрянул, уступив место чему-то ещё более мрачному.
Впереди лежала широкая, затянутая ржавой, маслянистой ряской река. Вода в ней была тёмной, почти чёрной, и текла она медленно, лениво, словно нехотя, будто сама была утомлена собственным существованием. А за рекой, на низком, пологом пригорке, лепилось Глухово.
Слово «деревня» не подходило к тому, что предстало перед её глазами. Это было не поселение, а скопище серых, покосившихся изб, словно грибы-поганки, выросшие из болотной трясины. Никакой планировки, никаких улиц. Избы стояли в беспорядке, будто их в спешке бросили на землю, и они так и застыли, врастая в грязь. Кривые, почерневшие от времени и непогоды срубы, провалившиеся крыши, заросшие бурьяном и крапивой огороды. Дым из труб был не белым, а каким-то грязно-серым, и он стелился по земле, не желая подниматься в небо, добавляя к общему ощущению упадка и безысходности.
Повозка с грохотом въехала в это царство упадка. Колесо с гулким чмоканием увязло в глубокой луже, брызги чёрной жижи забрызгали подол Анны. Она не шелохнулась. Она просто смотрела. Это был её новый дом. Место её ссылки. И, возможно, её могила.
Степан остановил лошадь у первого же более-менее целого строения – одноэтажной, почерневшей избы с пристроенным крыльцом, которое вот-вот готово было рухнуть. Над дверью висела кривая, самодельная вывеска, на которой с трудом угадывались слова, выжженные на дереве: «У Тихона. Пос. Двор.».
– Приехали, барышня, – буркнул Степан, спрыгивая с облучка и шлёпая по грязи. – Дальше сами.
Анна молча, с трудом разжимая закоченевшие пальцы, взяла свой чемодан. Он казался нелепым и чужеродным в этом месте, как и она сама – городской цветок, случайно выросший на помойке. Она сглотнула ком, подступивший к горлу, и, подобрав подол юбки, ступила на хлюпающую под ногами землю. Грязь засосала её каблук с таким звуком, будто нехотя отпускала свою добычу.
– А… а старшина? – спросила она, и её голос прозвучал хрипло и неуверенно, словно принадлежал не ей.
– Там, – Степан мотнул головой в сторону кабака, не глядя на неё. – Спросите у Тихона. Я поехал.
Он развернул повозку и, не оглядываясь, тронул лошадь, оставив её одну посреди грязной площади, под холодным, безразличным дождём. Словно избавляясь от ненужного груза.
Анна постояла с минуту, чувствуя на себе тяжёлые, невидящие взгляды из-за занавесок ближайших изб. Она была на виду. Чужая. Добыча. Потом, собрав волю в кулак, она толкнула низкую, скрипящую дверь кабака.
Контраст с уличным светом – и без того тусклым – был разительным. Внутри царил полумрак, пахло дешёвым самогоном, кислыми щами, потом и вековой пылью. И ещё тем самым сладковатым запахом, только здесь он был гуще, почти осязаем. Глазам потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть. В глубине комнаты, за грубыми, заляпанными столами, сидели несколько мужиков. Они не разговаривали, просто сидели, уставившись в пустоту, в позах полной безысходности. При её появлении они разом, как по команде, повернули головы и уставились на неё. Их лица были неподвижны и не выражали ровным счётом ничего – ни любопытства, ни удивления, ни злобы. Просто пустота. Пустота, которая была страшнее любой ненависти. В углу, на засаленной лавке, под тулупом, кто-то громко и прерывисто храпел.
За стойкой, сложив на животе огромные, покрытые шрамами руки, стоял хозяин – тот самый Тихон, судя по всему. Он был широк в кости, его фигура напоминала медведя, а лицо – вырубленный из гранита булыжник – ни единой эмоции, лишь тяжёлая, давящая инертность. Его маленькие глазки-щёлочки медленно поднялись и уставились на Анну.
Анна заставила себя сделать шаг вперёд. Скрип половиц под её каблуками прозвучал невероятно громко в гробовой тишине. Казалось, даже храп на мгновение прервался.
– Добрый день, – начала она, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо и официально, но вышло лишь напряжённо и неестественно, как у актёра, забывшего роль. – Я – новый письмоводитель, Анна Соколова. Мне нужен старшина Игнат. И помещение для конторы.
Тихон медленно перевёл на неё взгляд. Его глаза были маленькими и заплывшими, как у старого барсука. Казалось, прошла вечность, прежде чем он пошевелился.
– Старшина… – произнёс он хриплым, низким голосом, будто слова перекатывались у него по скребку. – Он там. – Он мотнул головой в сторону храпящей в углу фигуры. – А контора ваша – хата через два двора, с синим ставнем. Заколочена. Ключ у него. – Снова кивок в тот же угол.
Анна почувствовала, как по спине пробежал холодок. Всё было ещё хуже, чем она могла предположить. Она подошла к спящей фигуре. Запах перегара и немытого тела был ошеломляющим. Она осторожно кашлянула. Никакой реакции. Она протянула руку, чтобы коснуться его плеча, но замерла в нерешительности.
Вдруг храп прекратился. Фигура под тулупом дернулась, и из-под него показалось лицо. Лицо мужчины лет сорока с лишним, с густой, спутанной бородой, запавшими глазами и нездоровым, землистым цветом кожи. Но в этих глазах, мутных и заспанных, тлела искра осознания. Он уставился на неё.
– Чего надо? – его голос был хриплым от сна и выпивки.
– Старшина Игнат? Я новый письмоводитель, Анна Соколова. Мне нужен ключ от конторы.
Он смерил её медленным, тяжёлым взглядом, с головы до ног, и на его губах появилась кривая, недобрая усмешка.
– Ключ? – он с трудом поднялся, опираясь на локоть. – Ключ, говоришь… – Он порылся в кармане своих грязных штанов и извлёк большой, ржавый ключ. – На, бери свою контору. Только смотри… – он наклонился к ней ближе, и запах перегара стал совсем невыносимым, – …ночью там не сиди. Местные черти не любят чужаков. Особенно таких… чистеньких.
Он грубо сунул ключ ей в руку и снова рухнул на лавку, натянув тулуп на голову. Разговор был окончен.
Анна вышла из кабака, сжимая в руке холодный, ржавый ключ. Он был похож на ключ от склепа. Дождь не утихал. Она нашла дом с синим ставнем. Он выглядел ещё более обшарпанным, чем остальные. Доски были забиты криво, словно это делали в полной темноте. Она с трудом вставила ключ в заржавевший замок. Тот поддался с громким, скрежещущим звуком, который, казалось, разбудил всю деревню.
Дверь открылась, пропустив её внутрь.
Внутри пахло пылью, плесенью и годами забвения. Первое, что она сделала, – отыскала свечу в своем чемодане и зажгла ее. Дрожащий огонек осветил единственную комнату, служившую когда-то и жильем, и канцелярией. В углу стояла железная кровать с провалившимся матрасом, набитым, судя по запаху, соломой. Посередине – грубый стол и табурет. У стены – пустая полка и небольшой сундук. На столе лежала стопка пожелтевшей бумаги, промокшей насквозь, и сломанное перо. Весь пол был покрыт слоем грязи, нанесенной ветром через щели в стенах.
Это был ее дом. Место ее службы. Ее тюрьма.
Она бросила чемодан на пол и, не раздеваясь, рухнула на кровать. Пружины жалобно заскрипели. Она смотрела в закопченный потолок, слушая, как за стеной воет ветер и барабанит дождь. Она ждала слез, но их не было. Была только пустота и леденящая усталость, прошивающая каждую клетку ее тела. Она провалилась в сон, тяжелый и беспокойный, как обморок.
Ее разбудило ощущение, что она не одна.
Свеча догорала, отбрасывая по стенам длинные, пляшущие тени. Комната погрузилась в полумрак. Анна лежала неподвижно, вслушиваясь в тишину. И сквозь шум дождя она уловила другой звук. Тихий, шелестящий. Как будто кто-то осторожно проводит пальцами по грубой поверхности стены.
Она медленно повернула голову.
Тень в углу комнаты, отброшенная сундуком, шевельнулась. Не от колебания пламени свечи – оно горело ровно. Она изогнулась, поползла по полу, жидкая и беззвучная. Она была гуще, чернее окружающего мрака, и в ней угадывалась смутная, неоформленная злобность.
Анна замерла, сердце заколотилось в груди, громко стуча в ушах. Этого не может быть. Тени не двигаются сами по себе. Это галлюцинация. Усталость. Разум отчаянно цеплялся за логику, но инстинкты кричали об опасности.
Тень приближалась к кровати. Она чувствовала ледяное дуновение, исходящее от нее, запах старой могильной земли и влажного камня. Ее пальцы судорожно сжали край тонкого одеяла. Она не могла пошевелиться, не могла крикнуть. Она лишь смотрела, как эта полоска тьмы подбирается к ней, готовая поглотить.
И в этот миг, прямо у неё над ухом, раздалось громкое, недовольное ворчание.
«И спать спокойно не дадут… Тьфу! Шляются тут, прости господи, без спросу…»
Голос был старческим, сиплым и настолько бытовым, настолько лишённым какого-либо мистического ужаса, что на секунду полностью переключил внимание Анны. Это был голoс ворчливого старика, которого отвлекли от сна.
И в этот же миг тень на полу дёрнулась. Резко, испуганно, как побитая собака, она отскочила назад и мгновенно слилась с другими тенями на полу, застыв в полной неподвижности.
«И пол-то вымыт… теперь опять следы…» – пробурчал тот же голос, уже засыпая, и больше не подавал признаков жизни.
Анна сидела на кровати, дрожащей рукой прижимая одеяло к груди. Она обводила взглядом тёмную комнату. Никого. Только лунные полосы на полу и неподвижные тени. И тишина. Настоящая, глубокая тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра.
Что это было? Сон наяву? Психический срыв? Но ворчание было таким отчётливым, таким реальным… Оно звучало… из печи.
Она так и не смогла больше уснуть, просидев до рассвета, уставившись в ту точку, где ползла тень, и на темный, безмолвный угол печи.
Утро пришло серое и безутешное. Анна чувствовала себя так, будто её переехали гружёной повозкой. Каждая мышца ныла, веки наливались свинцом. Первым делом она осмотрела то место на полу. Ничего. Ни следов, ни пятен. Только её собственные босые отпечатки на пыльном полу.
Она с трудом разожгла примус – с печкой связываться не было ни сил, ни умения – и поставила кипятить воду для чая. На столе лежал вчерашний хлеб, который она принесла с собой. Она отломила кусок, но есть не хотелось. Горло сжимал спазм.
«И кто это тут вчера ворчал?» – вдруг спросила она вслух, сама удивившись своей реплике.
Пауза. Затем с печи, из-за заслонки, донёсся сонный, раздражённый голос:
«А кто тут пол ночью мыть будет? Ты? Так ты и днём-то еле справляешься. Хлеб зазря припасла… небось, жевать не умеешь, только крошки сыплешь.»
Анна застыла с кружкой в руке. Это был тот самый голос. Она не испугалась. Возможно, от усталости, возможно, потому что тон был настолько обыденным, лишённым какой-либо угрозы. Это было похоже на разговор с вредным, но не опасным соседом.
«Ты… кто?» – осторожно спросила она, глядя на печь.
«А Хмырь я. Бережень здешний. Домовой, по-вашему, – отозвался голос. – И пока Варя была – порядок был. А ты… – он тяжело вздохнул, – грязища на тебе, с полпуда. И с печкой управляться не можешь. Замучаюсь я с тобой…»
Домовой. Анна мысленно покачала головой. В академических трудах о них писали, как о пережитке анимистических верований, порождении невежественного сознания. А тут… он ворчит у неё на печи и жалуется на грязь.
«А… приятно познакомиться», – выдавила она, чувствуя себя полной идиоткой, разговаривающей с печкой.
С печи донёсся лишь новый, ещё более глубокий вздох, полный трагического предвидения тяжкой доли.
Чтобы прийти в себя, Анна снова взялась за бумаги, привезенные из архива Департамента. Она развернула на столе найденную накануне в конторе карту окрестностей Глухово. Старая, рисованная от руки, она была испещрена не только названиями деревень и полей, но и странными, пугающими символами. «Чёрный Камень» был обведён кружком, похожим на предупреждающий знак. «Круговая Тропа» извивалась змейкой, пересекаясь с другими тропами в самых неожиданных местах. «Сухой Колодец» помечен аккуратным, но зловещим крестом.
Она положила рядом тетрадь с делом Степки Белова и начала сверять. Да, мальчик пропал недалеко от начала Круговой Тропы. И другие пропавшие, чьи дела она мельком видела в архиве, тоже были так или иначе связаны с этой тропой или объектами вокруг неё. Узоры начинали складываться в чудовищную картину.
Но что означали пометки на полях карты? Мелкий, бисерный почерк Варвары Петровны, предыдущей смотрительницы, был труден для чтения. Анна вглядывалась, пытаясь разобрать выцветшие чернила.
«Что значит «грань истончается»? – пробормотала она, водя пальцем по записи. – И кто такой «Скимен»?»
Внезапно с самой тёмной, закопчённой балки под потолком раздался новый голос. Холодный, точёный, с лёгкой хрипотцой, полный неподдельного интеллектуального превосходства.
««Грань» – это раздел между миром плотным, в котором вы копошитесь, и Умброй, миром Тени. «Истончается» – это, на доступном вам языке, означает, что барьер ослабевает. А «Скимен»…»
Голос сделал паузу, полную ледяного презрения.
«…это низшее духоподобное существо, порождение тех самых «теней», что так заинтересовались вами прошлой ночью. Поздравляю. Вы привлекли внимание местной фауны.»
Анна вздрогнула и уставилась на балку. Сначала она видела лишь сгусток тьмы. Но потом тень словно сгустилась, приобрела очертания. На балке, совершенно бесшумно, сидел крупный ворон. Его оперение было не просто чёрным – оно казалось отверстием в ночное небо, поглощающим свет. Лишь глаза горели холодным, безжалостным изумрудным светом, прикованными к ней.
«Кто… что ты?» – прошептала Анна, чувствуя, как почва уходит у нее из-под ног. Ее мир, и без того давший трещину, теперь рушился со скоростью звука.
«Я – Корвик. Архивариус и, по несчастному стечению обстоятельств, временный наставник, – ответил ворон, не шелохнувшись. – И если вы планируете выжить, прекратите, наконец, тыкаться в эти бумаги, как слепой котёнок. Вы копались в архиве Волынских без должного ритуала защиты. Это равносильно тому, чтобы кричать в лесу: «Я здесь! Приходите меня съесть!».
«Ритуал защиты? – Анна с трудом находила слова. – Я… я просто изучала документы! Я следовала инструкциям!»
«Документы, пропитанные силой Умбры, – парировал Корвик. – Каждое слово Варвары, каждый её знак – это маяк. Вы его зажгли, роясь здесь с вашим примитивным, «официальным» подходом. И Скимены это почуяли. Ваш страх для них – как колокольный звон к ужину.»
С печи раздалось громкое, недовольное фырканье.
«Умный ты, умный… – проворчал Хмырь. – А печь починить можешь? Сквозит отовсюду! Её, милая, глиной замазать надо, а не умными словами! Без тепла-то любая тень дохлая будет, а ума-то не хватит!»
Корвик медленно, с королевским достоинством, повернул голову в сторону печи, и его изумрудный взгляд стал ещё холоднее.
«О, безмозглый дух очага! Когда Тень поглотит это место, твоя глина станет ему саваном! Пока она… – он кивнул в сторону Анны, – …размазывает свои крошки по полу, её разум уже пожирают порождения Нави! Вы предпочитаете бороться с сыростью, пока дом горит.»
«А ты бы помолчал, пернатый! – огрызнулся Хмырь. – Ишь, расписался… Навь… Умбра… А без тёплой избы любая Навь дохлая будет! Ты ей законов начитал, а как щи сварить – не научил! Практика, птица, практика! Варя-то это знала!»
Анна сидела, переводя взгляд с ворчащей печи на надменного ворона. У неё кружилась голова. Домовой и говорящая птица, спорящие о высшей магии и замазке для печи. Это был абсолютный, сюрреалистический абсурд. Но это была также её новая, единственная реальность. И в этой реальности у нее, похоже, появились… союзники. Пусть и крайне своеобразные.
Вечером, едва стемнело, начался настоящий шторм. Ветер завывал в трубе так, будто хотел сорвать крышу, бросая в ставни целые горсти дождя. Но сквозь шум бури Анна скоро услышала нечто иное, от чего кровь застыла в жилах. Не просто стук. Скреблось. Сотни когтей, острых и цепких, скребли по стенам, по крыше, по ставням. Тени за щелями не просто шевелились – они кипели, клубились, сливаясь в сплошную, шевелящуюся массу тьмы, которая рвалась внутрь. Доносилось тихое, похожее на шепот шипение, полное ненасытного голода.
Анна вжалась в кровать, сжимая тот самый подсвечник. Детский, беспомощный ужас снова охватил её, парализуя волю.
«Засов-то проверь! – донёсся сквозь вой ветра голос Хмыря, будто из-под земли. – И к щели у порога тряпку подоткни, дует, света белого не видно! Ишь, разошлись, проклятые…»
Его обыденный, хозяйский тон заставил ее действовать на автомате. Она поднялась и, стараясь не смотреть на щели, в которые лилась пульсирующая тьма, проверила деревянный засов на двери. Он был крепок. Потом нашла тряпку и заткнула ею самую большую щель под дверью. И – о чудо – когда она это сделала, пронзительный, режущий слух свист ветра стих, и вместе с ним отступила толика паники.
В то же время Корвик спустился с балки и уселся на спинку её кровати. Он не двигался, не издавал ни звука, но из его груди стало исходить мягкое, изумрудное сияние. Оно было неярким, едва освещавшим ее лицо и руки, но тени за ставнями, едва касаясь его лучей, отскакивали с тихим, шипящим звуком, будто обжигались. Он был живым щитом, холодным, молчаливым и эффективным.
Буря бушевала всю ночь. Анна не сомкнула глаз, прижавшись спиной к стене и наблюдая за своими странными защитниками. Хмырь ворчал, давая практические советы – «подопри ставень той палкой!», «печку подтопи, духоту выгони!» – и дом, казалось, слушался его, становясь чуть прочнее, чуть надёжнее, чуть более своим. Корвик, молчаливый и невозмутимый страж, своим призрачным светом отгораживал их клочок пространства от внешнего кошмара.
Под утро шторм стих так же внезапно, как и начался. В избе воцарилась тишина, нарушаемая лишь её собственным неровным дыханием и мерным, довольным похрапыванием Хмыря за печной заслонкой. Корвик, свернувшись тёмным шаром, дремал на спинке кровати, его сияние погасло.
Анна медленно выдохнула. Она была истощена до предела, ее тело ломило, а веки слипались. Но сквозь ватную пелену усталости пробивалось новое, странное чувство. Она провела пальцами по шершавому, но теперь уже знакомому одеялу. Она больше не была одна в этом проклятом месте. У неё появились союзники. Привередливый, язвительный и не люди. Но они были здесь. И они сражались за неё. За этот дом.
Она легла и наконец уснула тяжелым, без сновидений сном. Завтра, подумала она напоследок, ей предстоит серьезный разговор со старшиной Игнатом. Но теперь этот разговор будет вести не просто испуганная ссыльная, а Хозяйка этого дома. Пусть пока лишь номинальная.
ГЛАВА 3. ПЫЛЬ И ПРИЗРАКИ
Возвращение в избу стало возвращением в другую реальность. Если раньше эти стены с выщербленными бревнами и потемневшими от времени косяками были для Анны просто убогим, но временным пристанищем, то теперь они казались последним рубежом обороны, за которым простиралась враждебная, непостижимая тьма. Воздух, прежде пахнувший лишь пылью, старой древесиной и легкой затхлостью заброшенного жилья, теперь был густ и тяжек от незримого напряжения, словно перед грозой. Каждый скрип половицы под ногами отзывался в её воспаленных нервах резким, болезненным уколом. Каждый шорох за ставнем, каждый шелест ветки о стену заставлял её вздрагивать и замирать, впиваясь взглядом в тряпье, заткнутое в щели оконных рам. Но это был уже не прежний, слепой и животный страх перед неизвестным. Это была холодная, трезвая настороженность солдата, впервые увидевшего линию фронта и понявшего, что отступать некуда.
Игнат не предложил проводить её до порога. Он просто остановился на краю света, отбрасываемого керосиновой лампой из её окна, кивнул скупо и коротко бросил: «Запрись. И не выходи до утра.» После чего он просто растворился в темноте, будто тень, слившаяся с более густой тенью ночи. Он оставил её наедине с новым знанием, которое жгло изнутри, как раскалённый уголь, проглоченный по неосторожности. Анна, движимая инстинктом, повернула массивный деревянный засов, с трудом входящий в скобу, и прислонилась к прохладной, шершавой поверхности двери спиной, закрыв глаза. В ушах ещё стоял тот низкий, навязчивый гул, что исходил от того места, где истончилась сама ткань мира, а перед глазами, даже под веками, плясали и переливались пятна – ядовитые, болезненные отсветы той самой, увиденной «внутренним взглядом» больной реальности, что скрывалась за привычной глазу картиной.
«Ну что, повеселил наш князь? – раздалось из-за печной заслонки, вырвав Анну из оцепенения. Голос Хмыря был таким же сиплым и ворчливым, но в нём теперь слышалась не насмешка, а нечто похожее на любопытство. – Показал свои красоты заморские? Все эти тенёта да шепотухи?»
Анна медленно, будто сквозь силу, открыла глаза. Зрачки привыкли к полумраку, выхватывая из тьмы знакомые очертания стола, лавки, тёмного проёма печи.