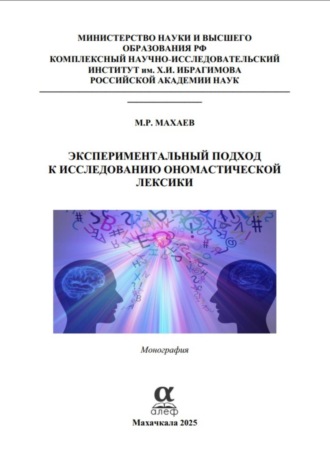
Полная версия
Экспериментальный подход к исследованию ономастической лексики
Напомним, что в соответствии со шкалой полевой организации значения лексем, принятой в воронежской школе, семантические микрокомпоненты с индексами яркости 0,12 и выше относятся к ядру поля. Индекс яркости семы в диапазоне с 0,11 до 0,04 означает, что она находится на ближней периферии, а индекс яркости 0,03-0,02 распределяет ее на дальнюю периферию. Крайнюю периферию поля заполняют семы с индексами яркости 0,01 и ниже.
Индекс яркости семы в диапазоне от 0,05 до 0,10 является, на наш взгляд, достаточным для идентификации семы в качестве релевантной и дальнейшего ее включения в состав психолингвистического значения.
В современной литературе предложены различные классификации ассоциативных экспериментов.
В большинстве случаев исследователи выделяют три вида ассоциативных экспериментов: свободный, направленный и цепной.
Свободный ассоциативный эксперимент является разновидностью ассоциативного эксперимента, наиболее распространенного в современных исследованиях [19, 20, 26, 47, 48].
В соответствии с методикой свободного ассоциативного эксперимента от испытуемого требуется ответить первым пришедшим в голову словом на предъявленный стимул, при этом формальные или семантические особенности реакций не ограничиваются.
Наиболее распространенной в психолингвистической традиции является письменная форма регистрации реакций. В этом случае испытуемые получают специальные бланки, содержащие стимульный материал (лексемы) и после предварительного инструктажа от экспериментатора заполняют их.
Свободные ассоциативные эксперименты могут проводиться в группах (групповой эксперимент), либо индивидуально.
По результатам экспериментов исследователь получает материал в виде различных типов ассоциативных реакций.
Ассоциативные эксперименты позволяют выявлять и коннотации слов (посредством моделирования коннотативной макрокомпоненты значения после интерпретации коннотативных сем). Здесь следует подчеркнуть, что в большинстве случаев «хорошо выявляется оценочность, свойственная для периферии значения слова, так как слово может быть оценочным только по периферийным семам, оставаясь неоценочным по ядерным» [45, с.150]. Это позволяет, в частности, вычислять индексы пейоративности (как отношение отрицательно-ассоциативных ассоциатов к их общему количеству) и мелиоративности (как отношение положительно-оценочных ассоциатов к их общему количеству) значения.
4) Направленный ассоциативный эксперимент
В отличии от свободного ассоциативного эксперимента в направленном эксперименте на реакции накладываются определенные ограничения, которые могут касаться:
а) синтаксической формы ассоциативной реакции (например, экспериментатор просит ответить на заранее сформулированные вопросы: Х где находится? Х чем известен? Х какой?)
б) части речи (когда экспериментатор просит отвечать только глаголами или прилагательными и т.п.).
в) количество ассоциативных реакций (например, экспериментатор просит дать не менее 5 ассоциаций).
Вводимые в направленном эксперименте ограничения связаны с характером стимульной лексемы, и с целями эксперимента.
Например, если поставлена цель выявить многочисленные и наиболее яркие дифференциальные признаки денотата лексемы или ее коннотативные семы, целесообразно ограничить ассоциативные реакции синтаксической формой. Таким образом, ассоциативный процесс направляется в необходимое для целей эксперимента русло.
Направленные ассоциативные эксперименты также могут проводиться в письменной или устной формах, в группах или индивидуально.
5) Цепной ассоциативный эксперимент
Цепной ассоциативный эксперимент нередко рассматривается в качестве вида свободного ассоциативного эксперимента с регистрацией всех реакций, а не только первой. А.Клименко и В. Супрун называли его экспериментом с порождающейся реакцией [70].
Цепочный ассоциативный эксперимент выявляет спонтанное и неуправляемое протекание ассоциативного процесса. От испытуемых требуется в течение ограниченного промежутка времени ответить неограниченным количеством слов на каждый предъявленный стимул.
Время может не ограничиваться, но фиксироваться экспериментатором для дополнительного контроля.
Каждый из перечисленных видов ассоциативного эксперимента имеет достоинства и недостатки.
Если свободный эксперимент позволяет выявлять наиболее яркие семы значения, с помощью направленного эксперимента можно четко вычленять периферийные и коннотативные семы.
В то же время ограничения, накладываемые на процесс ассоциирования в направленном эксперименте, могут негативно влиять на надежность и валидность результатов. Вводимые рамки носят несколько искусственный характер, они могут существенно искажать информацию о протекании ассоциативного процесса, который носит спонтанный, бессознательный характер и является тем самым естественным состоянием психики.
С другой стороны, как отмечал Л. Сахарный, направленный эксперимент дает больше возможностей для реконструкции глубинных ассоциативных связей, поскольку направляет процесс ассоциирования в самые разные русла [67, 68].
Как показывает практика, «…в экспериментах, в которых информантам предлагается выбор признаков из подготовленного исследователем списка, яркость полученных признаков приблизительно в 2—3 раза выше, чем в экспериментах, где информантам предоставлена возможность свободного выбора признака» [45, с. 153]. То есть при свободном эксперименте индексы яркости полученных сем обычно ниже, чем в направленном эксперименте, что, «однако, не
отражает реальной яркости семы, так как в условиях выбора у информантов проявляется тенденция «подчинения списку», что и дает завышенные результаты» [там же].
Цепочный ассоциативный эксперимент позволяет выявить такие компоненты, которые не выявляются в свободном и направленном экспериментах, а также дает ясную картину иерархической организации значения лексем. Однако он является трудоемким для семантической интерпретации.
Еще один недостаток цепного ассоциативного эксперимента –существенная зависимость между рядами ассоциативных реакций. Зачастую следующая за первой реакцией на стимул вторая реакция оказывается реакцией не на сам стимул, а на предыдущую (т.е. первую) реакцию.
Перечисленные факты говорят о том, что для получения достоверных результатов необходимо использовать не одну, а несколько (как минимум две) методики. Поэтому в наших экспериментальных исследованиях были применены методика свободных ассоциаций и методика направленного ассоциативного эксперимента.
Подчеркнем, что «экспериментальные приемы выявления семантических компонентов не рассматриваются в целом как некая альтернатива компонентному или логическому анализу значения, исследованию его методом обратного перевода и другим методам анализа структуры значения, давно и плодотворно применяющимся в лингвистике. Экспериментальные приемы выступают как дополнение традиционных методов в тех случаях, когда традиционные методы трудно применимы, а также как средство проверки выделенных разными методами и приемами семантических компонентов на их действительную реальность как фактов психики носителей языка» [45, с. 152-153].
Итак, экспериментальные методики анализа структуры значения слов позволяют:
«1) выявить семантические компоненты, не обнаружимые другими приемами анализа (преимущественно периферийные семы);
2) проверить те или иные семантические компоненты на их психологическую релевантность для значения;
3) установить яркость отдельных семантических компонентов и ранжировать их по относительной яркости в структуре значения;
4) сравнить структуры значений слов как во (внутриязыковом, так и в межъязыковом плане по составу компонентов и их яркости» [45, с. 54].
2.3. Опыт применения экспериментальных методов в
современных исследованиях семантики имен собственных
Экспериментальные методы исследования семантики онимов активно применяются на современном этапе развития психолингвистики.
Наибольшее распространение получил ассоциативный эксперимент.
А. Степанова и Д. Маховиков провели экспериментальные исследования антропонимов русского языка [76].
В своих экспериментах в качестве стимульного материала они использовали более 400 наиболее распространенных в Российской Федерации антропонимов. Выборка осуществлялась при помощи Интернет-сайтов с рейтингами имен по разным годам и регионам страны, а также привлекались материалы «Русского ассоциативного словаря».
Имена были перемешаны в случайном порядке и распределены на 8 типов анкет, в каждой из которых содержалось по 50 стимулов.
В эксперименте приняли участие около 100 испытуемых.
Полученные реакции были распределены на следующие виды по доминирующему признаку, приписываемому имени, или же от особенности ассоциирования.
1) Прецеденты.
2) Собственно характеристики.
3) Семантически диффузная совокупность реакций.
4) Ассоциации на форму слова.
5) Фонетические ассоциации.
Прецеденты оказались наиболее многочисленной группой: (Зоя – Космодемъянская 8; Вениамин – «Папины дочки» 4; Маргарита – Мастер 10; Тарас – Бульба 32; Марк – Твен 12).
Авторы обратили внимание, «…что антропонимы, имеющие тесную связь с прецедентным феноменом, имеют более четкое ядро ассоциативного поля, реакции с наибольшей частотностью…» [76, с. 122]. Например, Маргарита – Мастер 8; цветок 5; цветок маргаритка 4; Мастер и Маргарита 3; Булгаков 3; маргарин 3; цветы 2; коктейль 2.
Кроме того, А. Степанова и Д. Маховиков пришли к выводу, что «привлекательность имени, его престижность в настоящий период или, напротив, старомодность и неаттрактивность получают выражение в соответствующих реакциях» [там же]. Например, Дуня – деревня 12, доярка 3, корова 2…; Ваня – сказка 5, деревня 4, дядя 3, дед 3… Таким образом, ассоциативные поля имен «Дуня» и «Ваня» свидетельствуют о том, что для носителей современного русского языка эти имена являются непрестижными, несовременными.
Однако, как подчеркивают авторы, такие выводы правомерны только по отношению к уменьшительно-ласкательным формам данных имен. Некоторые имена вызывают отрицательные эмоционально-оценочные реакции, поскольку воспринимаются, как «чужие». Например, имя «Амир» имеет следующее ассоциативное поле (курсивом выделены отрицательные эмоционально-оценочные реакции): Амур 6, восток 4, чурка 3, Кавказ 5, драгоценный камень 2, хач 2.
По итогам экспериментов были сделаны следующие выводы:
1) Большинство антропонимов имеют «…содержательные ассоциативные поля с четко выраженным ядром при значительном количестве единичных реакций» [76, с.123].
2) Стимулы-антропонимы вызывают большое количество реакций, имеющих коннотативный характер.
Таким образом, заключают авторы, «…исследование показало, что имена – это не пустые слова, которые используются для называния людей. Это сложные единицы со своеобразной семантикой, требующей более детального изучения. Ассоциативный эесперимент, как нам кажется, это один из методов, который в совокупности с другими экспериментальными методами может помочь в изучении такой спорной и противоречивой проблемы, как семантика имен собственного» [там же].
В.И. Супрун пишет: «Однако следует учесть, что в языковом сознании онимы объединяются не только по разрядам, но и по тому фрагменту окружающей человека среды, к которому они относятся. В этом случае разрядная отнесённость имени становится второстепенной, на первое место выходит потребность номинировать объекты, соотнесённые друг с другом экстралингвально, тематически, лингвокультурно, ассоциативно и пр. Следовательно, у онимов проявляется циркумстантно-дескриптивная функция…» [71, с.101].
Для того, чтобы выявить лингвальную реализацию циркумстантно-дескриптивной функции В.И. Супрун провел направленный ассоциативный эксперимент.
Гипотеза В. И. Супруна заключалась в том, что разноразрядные имена собственные, которые относятся к определённому фрагменту картины окружающего мира, в языковом сознании русскоязычных функционируют параллельно.
В эксперименте 185 испытуемым, в качестве которых выступили студенты и преподаватели в возрасте от 18 до 63 лет (большинство испытуемых – студенты и преподаватели), было предложено записать по три имен собственных на каждое стимульное слово: кино, живопись, родина, книга, война, политика, страна, наука, Россия, образование, государство, музыка.
Выбор данных слов-стимулов был обусловлен тем, что, во-первых, «…они отражают наиболее общие социальные и культурные фрагменты действительности, были доступны всем носителям языка, могли в той или иной степени вызвать разноразрядные онимические реакции» [71, с.102].
Основываясь на закономерности функционирования имен собственных в языковом сознании и в соответствии с гипотезой исследования, В.И. Супрун предположил, что значительную долю реакций на эти стимулы составят антропонимические реакции, а на слова-стимулы из сферы искусства и культуры будут преобладать идеонимы.
Результаты эксперимента подтвердили эти предположения (таблица 5).
Таблица 5. Онимические реакции на слово-стимул «война»
в эксперименте В.Супруна
Реакции-антропонимы (% реакций)
Реакции-хрононимы (% реакций)
Реакции-топонимы (% реакций)
Реакции-идеонимы
Реакции-хрематонимы
Реакции-эргонимы
33,3%
(пример: Сталин Жуков, Гитлер, Наполеон)
28,5%
(пример: Великая Отечественная война, Вторая мировая война)
23,2%
(пример: Сталингра, Ленинград, Сирия, Берлин)
11,5% (пример: «Война и мир», «Судьба человека»)
2 % (пример: «Катюша», Т-34, Знамя Победы)
1,5 % эргонимы (пример: ГКО, Смерш)
Итого: 552 реакции (94 % от максимального числа ответов).
Таблица 6. Реакции на слово-стимул «кино» в эксперименте В. Супруна
Реакции-антропонимы (% реакций)
Реакции-фильмонимы (% реакций)
Реакции-эргонимы
(% реакций)
Реакции-имена персонажей
Реакции-топонимы
58,8 %
(пример: Тарковский Андрей, Цой Виктор)
28,1%
(пример: Любовь и голуби, Титаник)
7,6 %
(пример: Мосфильм, Голливуд)
3,7 %
(пример: Гарри Поттер)
1,8%
(пример: Москва)
Итого: 459 реакций (82,7 % от максимального числа ответов).
В.И. Супрун делает следующие выводы: «Эксперимент подтвердил одновременное, параллельное функционирование в лингвосознании русскоязычного человека разноразрядных онимов, относящихся к определённому фрагменту картины окружающего мира» [71, С.104], при этом антропонимы занимают центральное положение в онимическом поле, «остальные имена собственные распределяются в зависимости от главной темы, слова-стимула, вызывающего ассоциации» [там же].
C.В. Полубоярин в своих исследованиях семантики имен собственных использовал не только методики свободного и направленного ассоциативного экспериментов, но также предложил испытуемым написать мини-сочинение на тему «что я думаю о Воронеже» (он использовал топоним «Воронеж» в качестве стимула) [60].
В его экспериментах приняли участие 100 жителей Воронежской области и 100 жителей Ярославской области обеих полов в возрасте от 15 до 72 лет.
Испытуемым были предложены инструкции:
1) напишите любое слово, которое приходит Вам в голову, когда вы слышите слово Воронеж. Укажите свой пол и возраст» (свободный ассоциативный эксперимент)
2) «закончите фразу – Воронеж – какой? Укажите свой пол и возраст» (направленный ассоциативный эксперимент)
3) «Опишите кратко, что вы думаете о Воронеже. Укажите свой пол и возраст» (мини-сочинение) [60, с. 86].
После окончания эксперимента C.В. Полубоярин осуществил процедуру когнитивной интерпретации полученных результатов.
В итоге он выявил многочисленные когнитивные признаки топонима «Воронеж».
Результаты когнитивной интерпретации экспериментальных данных по топониму «Воронеж» представлены в таблице 7 (табл.7).
Таблица 7. Реакции на слово-стимул «Воронеж» в эксперименте C. В. Полубоярина (приводятся признаки с частотностью не менее 17) [60, с. 87]

Таким образом, полученные семы дают сведения о том, каким образом концепт «Воронеж» отражается в языковом сознании носителей русского языка в Воронежской и Ярославской областях.
Кроме того, C.В. Полубоярин, ранжировав полученные семы по частоте актуализации, построил полевую модель психолингвистического значения топонима «Воронеж».
Например, в ядро значения вошли такие семантические компоненты, как город 31, красивый 27, место действия мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова» 22, находится на юге России 17, родной 17, лучший город 16, областной центр 15.
Ближняя периферия сформирована компонентами с частотностью 14 и менее (грязный 14, большой 13, здесь много ворон 11 и др.), дальняя периферия – компонентами с частотностью 4 и менее (интересный 4, много культурных ценностей 4, находится в Центральной России 4 и др.), а крайняя периферия – компонентами с частотностью 1 (в городе мало красивых мест 1, гламурный 1 и др.).
На следующем этапе C.В. Полубоярин сформулировал психолингвистическое значение топонима «Воронеж». Структура статьи: заглавное слово; цифра после заглавного слова – количество испытуемых в эксперименте; семантические компоненты; цифры после семантических компонент – частотность их актуализации.
Воронеж (200) – город 31, большой 15, реже маленький 1, провинциальный 11 областной центр 15, находящийся на юге 17 России 7, в Центральной России 4, в Черноземье 7, рядом с Украиной 1, столица Черноземья 6, в Волго-Вятском регионе 1, расположенный в степи 2, на реках Воронеж 2 и Дон 1, далеко 1; отличается теплым климатом 5, солнечный 2, зимой холодный 4 и заснеженный 3; с высотной застройкой 3, широкими улицами 2, с многочисленными воронами 11; с миллионным населением 3, обилием молодежи и студентов 2, реже немноголюдный 1, является крупным железнодорожным узлом 9, есть атомная станция, много вузов 9, водохранилище 1, промышленно развитый 11, высокотехнологичный 1, с обилием банков 1, развитым сельским хозяйством 1; обилием культурных ценностей 4, мест для развлечений 6, с футбольным клубом «Факел» 2, своей командой КВН 1; имеет богатую историю 3, является местом строительства первого русского флота 5, в Отечественную войну были жестокие бои 1, имеет звание «Города воинской славы» 2; ничем особо не примечателен 8, известен улицей Лизюкова 5, Кольцовским сквером 1, Чернавским мостом 1; родина знаменитых людей 2, жил Мандельштам 2, работает проф. Стернин 2, родина Кольцова 1, родина Никитина 1, здесь живет Май Абрикосов 1; место действия мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова» 22, связан с известными фразами «Воронеж не догонишь» 5, «… девчоночки веселые, певучие» 1; красивый 27 и привлекательный 8, реже некрасивый и непривлекательный 8, город контрастов 1; криминальный 10, загазованный 2; преимущественно грязный 14, реже чистый 1; благоустроенный 3, уютный 2, хорошо озелененный 2, реже неуютный 2, с плохими дорогами 1; бедный 2; развита торговая сеть 2, хорошая медицина 1, но трудно найти работу 1; жители хорошие люди 3, разных национальностей 3, гостеприимные 2, умные 1, много женщин 1, характерно произносят звук «г» 5; странный 1, вызывает скуку 4, надоедает 1; строящийся 3, перспективный 2, развивающийся 1, реже неперспективный 2; современный 3; как интересный 4, так и неинтересный 4; имеет неудачное название 2; родной 17, место жительства моих родственников 6, я никогда его не посещал 11, незнакомый мне 9; оценивается положительно 18, реже отрицательно 3 [60, с. 90].
Т.Е. Никольская провела экспериментальное исследование состава и структуры ассоциативного поля личных имен, полагая, что ассоциативный компонент является полноправным элементом семантики личных имен [53].
Она провела свободный лингвистический эксперимент, в котором принимали участие 210 студентов Нижегородского лингвистического университета и Нижегородской архитектурно-строительной академии в возрасте от 17 до 20 лет.
Испытуемым был предъявлен экспериментальный список, в который вошли 40 произвольно выбранных личных имен: 14 мужских и 14 женских официальных имен, а также 12 неофициальных, но связанных с ними имен.
По итогам эксперимента было получено 6212 реакций.
Т.Никольская распределила реакции по характеру отношения к языку на две группы: лингвистические и нелингвистические.
Лингвистические ассоциативные реакции распределялись на следующие подгруппы:
а) реакции с фонетическим сходством формы личного имени с лексемами нарицательной лексики (например, Евгений – гений);
б) реакции, которые основаны на рифмах (например, Толик – кролик);
в) реакции, основанные на цитатах (Борис – ты не прав);
г) реакции, основанные на знаниях об этимологии имени и др.
Среди нелингвистических ассоциативных реакций Т. Никольская выделила:
а) реакции, основанные на фоновых знаниях (Александр – Македонский);
б) реакции, характеризующие внешность потенциального референта (Екатерина – мужественная, гордая);
в) реакции с визуально-динамическим образом (Анчутка – бьет посуду) и др.
Наиболее высокий процент получили реакции, основанные на фоновых знаниях испытуемых (90 % от общего числа реакций – для имени Анна; 64,9 % – для имени Борис и т.д.).
Синтагматические и парадигматические отношения между стимулом и реакцией составляют основу формирования ассоциативных связей, основанных на фоновых знаниях.
Эксперименты Н.В. Бубновой базируются на идее, что имена собственные обладают ассоциативно-культурным фоном, который формируется совокупностью вербальных ассоциаций, связанных с тем или иным онимом в составе фоновых знаний региональной языковой личности и при этом не входит в содержание самого онима.
Региональная языковая личность представляет собой обобщенный образ носителя языка в том или ином регионе (члена определенного регионального языкового пространства), который имеет определенный набор фоновых знаний. Имена собственные являются важнейшей единицей этих фоновых знаний.
Ассоциативный эксперимент является продуктивным способом выявления ассоциативно-культурного фона.
Для реконструкции ассоциативно-культурного фона имен собственных Н. В. Бубнова провела ассоциативные лингвистические эксперименты на региональном и общенациональном уровнях.
В качестве стимульного материала был использован топоним Смоленщина.
Региональный эксперимент проводился в письменной форме в два этапа.
На первом этапе было опрошено 1650 респондентов, которые заполняли анкету со следующими параметрами: возраст, место рождения, время проживания на Смоленщине, место жительства, уровень образования, сфера профессиональной деятельности.
Испытуемые должны были в течение одной минуты записать имена собственные, с которыми у них ассоциируется слово Смоленщина.
По итогам эксперимента была сформирована электронная база данных №1, «…включающая 1212 реакций (13 471 употребление), которые достаточно полно и точно отражают культурные, исторические, географические и другие реалии, связанные с заглавным смоленским онимом» [9, с. 28].
В ядре ассоциативного поля оказались такие онимы, как Днепр (953)9, Успенский собор (725), Крепостная стена (695), Ю.А. Гагарин (596), М.И. Глинка (492), А.Т. Твардовский (466), Смоленск (345), М.В. Исаковский (273), Ф.С. Конь (232), М.К. Тенишева (166), Н.И. Рыленков (154), Василий Тёркин (124).
На втором этапе была поставлена задача выявить их ассоциативно-культурный фон.
В этот раз эксперимент проводился исключительно в студенческих группах. Всего в эксперименте приняли участие 863 студента различных вузов Смоленска. Эксперимент проводился в письменной форме. Заполняли испытуемые тот же самый бланк с анкетой, который был использован на первом этапе + «ядерные» смоленские онимы.
По результатам эксперимента была составлена электронная база данных №2.
Приведем данные о структуре ассоциативно-культурного фона антропонима «Ю.А. Гагарин». Все реакции распределены на 4 группы.
I. ИНФОРМАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ (87/796):
1. Реакции, характеризующие сферу деятельности носителя имени (64/710) (реакции переданы курсивом, для каждой из них указан ИЧ):
1.1. Профессия, род занятий 41/365: космонавт 183; лётчик 3; великий космонавт 2; астронавт; космонавт-герой; летчик-испытатель; полетевший в космос 1.



