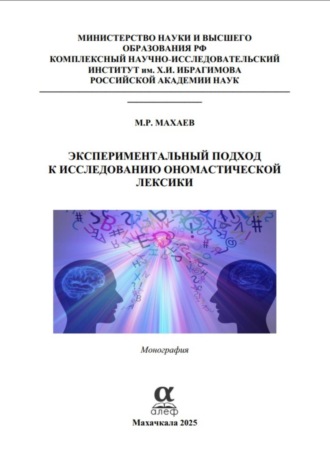
Полная версия
Экспериментальный подход к исследованию ономастической лексики
Ergonym (эргоним) – обозначение деловых объединений (напр., коммерческих предприятий, союзов и т.п.).
Ethnonym (этноним) – обозначение народов, народностей, племен.
Exonym (экзоним) – имя, которое употребляется жителями одной местности по отношению к жителям другой местности.
Hodonym (одоним) – обозначение улиц и дорог.
Hydronym (гидроним) – обозначение озер, рек, морей и иных водоемов.
Hypocoristic (гипокористика) – обозначение разговорных (неофициальных) имен.
Metronym (метроним) – родовые имена, присваиваемые ребенку по имени матери.
Oikonym or oeconym (ойконим) – обозначение городских (астионимы), сельских (комонимы) и иных поселений.
Oronym (ороним) – обозначение объектов рельефа земной поверхности.
Patronym (патроним) – родовое имя, присваиваемое ребенку по имени отца.
Teknonym (тектоним) – имя взрослого человека, которое присваивается по имени ребенка.
Theonym (теоним) – обозначение Бога.
Toponym (топоним) – обозначение географических объектов.
Zoonym (зооним) – обозначение кличек животных [86].
Итак, в настоящее время можно фиксировать, что ономастика, как научная лингвистическая дисциплина, сформирована и продолжает развиваться.
Ее проблемное поле включает в себя достаточно широкий круг вопросов: границы ономастической номинации, этапы и природа ономизации апеллятивов и апеллятивизации онимов (феномен деонимизации), объем и содержание ономастического пространства, классификация имен собственных и др.
Не менее актуальным и важным в современной ономастике является вопрос о семантическом статусе имен собственных.
Экспозиция данной проблемы представлена в следующем параграфе монографии.
1.2. Топоним как специфический разряд онимов.
Семантический статус топонимов
Экспериментальное исследование семантики имен собственных проводилось нами на материале топонимов. Поэтому следует дать характеристику этому специфическому разряду ономастической лексики.
Топонимы (от др.-греч. τόπος – место и ὄνυμα – имя, название) составляют значительную долю в ономастической системе того или иного языка и изучаются в рамках топонимики – одного из разделов ономастики.
В работе [4] топоним рассматривается в качестве символа естественного языка, который обозначает топологический объект на планете Земля.
В «Энциклопедическом словаре-справочнике лингвистических терминов и понятий» топоним определяется, как слово или словосочетание, используемое для обозначения географического объекта и применяемое в качестве имени собственного с учетом этнокультурной специфики (языка, традиций, письменности народов) [95].
Более широкое и комплексное определение дает В. Подольская.
Она определяет топоним в качестве разряда имен собственных, который обозначает собственное наименование как природных, так и искусственно созданных объектов [61]. Возьмем данную дефиницию за основу.
Существуют различные классификации топонимов, которые различаются теми или иными принципами и критериями, положенными в их основу (словообразовательные, морфологические, лексико-семантические) [46].
Наиболее ценной представляется лексико-семантическая классификация топонимической лексики. См., классификации А. Селищева, В. Жучкевича, К. Лысенко, И. Королевой [там же].
Как было отмечено ранее, одной из центральных в современной ономастике является проблема наличия у имен собственных лексического значения.
Лексическое значение слова, как соотнесенность между ее звуковым комплексом, денотатом и представлениями об объекте, является ее ключевым отличительным признаком.
Имена собственные так же имеют звуковую оболочку, соотносимую с обозначаемым объектом (денотатом).
Проблема заключается в наличии в структуре имен собственных понятийного содержания.
Относительно данного вопроса в современной лингвистике до сих пор не выработана единая точка зрения.
Не претендуя на исчерпывающий анализ истории вопроса о семантике топонимов, дадим обзор некоторых концепций, репрезентирующих основные точки зрения относительно обсуждаемой проблемы и позволяющих получить общие представления о ней.
Традиционно считалось, что природа имен собственных находится вне понятийной сферы, и никаким особым лексическим значением онимы не обладают.
Например, английский философ Джон Милль (1806-1873) полагал, что онимы являются метками, ярлыками, которые позволяют узнавать и различать обозначаемые объекты, но не описывать (не характеризовать) их; то есть онимы не обладают значением (не передают какой-либо информации об объекте).
Таким образом, согласно взглядам Милля, имена собственные исключительно «денотируют» объекты, а не коннотируют их, как апеллятивы.
Такой точки зрения придерживался и английский лингвист А. Гардинер, изложивший свою концепцию в работе «Теория имен собственных» [98].
Основной функцией онима Гардинер называл отождествление. Осуществляется отождествление благодаря различительному звуку (т.е. звуковой оболочки имени собственного), при этом независимо от того значения, которое присуще этой звуковой оболочки.
Е.М. Галкина-Федорук полагала, что онимы являются исключительно различающими знаками, и они никак не связаны с понятийной системой и не имеют лексического значения [91].
А. Реформатский в своих исследованиях пришел к выводу, что значение онимов исчерпывается их номинативной функцией, т.е. их отношением к обозначаемому объекту (классу объектов), при этом никаких понятий онимы не выражают [64].
Существует и противоположная интерпретация данного вопроса.
Так, О. Есперсен полагал, что имена собственные «коннотируют» большое число признаков (больше даже, чем апеллятивы).
В качестве примера Есперсен приводит случаи первого знакомства с объектом, когда ничего кроме имени о нем неизвестно; по мере дальнейшего знакомства с объектом его имя наполняется конкретным содержанием.
О. Есперсен указывал, что аналогичные процессы имеют место и в отношении апеллятивов: по мере роста знаний об объекте, обозначаемым именем нарицательным, происходит и рост его коннотаций (значений).
О. Есперсен пришел к выводу об отсутствии четкой границы между онимами и апеллятивами, поскольку различие между ними носит количественный, а не качественный характер [33].
На современном этапе развития ономастики представлены различные подходы, опирающиеся на разные теоретические платформы и научные парадигмы [40, 41, 49].
Г. Сызранова полагает, что в отношении к онимам целесообразно говорить не о семантике, а о разных типах информации, которые содержатся в них: речевой, языковой и энциклопедической [81].
Ономастическая лексика отличается от апеллятивной объемом и характером заложенной в ней информации.
Н. Подольская подчеркивала, что онимы не имеют непосредственной связи с понятием, а их основное значение находится в связях с денотатом [62].
Сходная позиция была изложена в «Русской грамматике»: поскольку имя собственное обозначает индивидуальный объект, который входит в класс однородных объектов, но при этом никак не указывает на этот класс, оно (имя собственное) не имеет какого-либо лексического значения, а тем или иным образом соотносится с референтом.
М. Голомидова указывает на высокий прагматический коэффициент имен собственных ввиду их знаковой природы. Прагматическая ценность привносится во многом благодаря индивидуализирующей функции именного знака. М. Голомидова сравнивает онимы с этикетками, которые приклеиваются человеком избирательно.
Функциональную языковую семантику онима она сводит к знаку-выделителю, посредством которого маркируются некоторые классы реалий.
Такие свойства именных знаков, как притяжение дополнительных смыслов, прирост созначений обуславливают специфику их семантической структуры. М. Голомидова признает, что понятийное ядро имен собственных является скромным, их содержание обогащается посредством предметного содержания, известного участникам коммуникации, а также фоновой культурной информации, коннотативного элемента и семантического потенциала внутренней формы [18].
Таким образом, прагматически окрашенная семантика прирастает к языковому ядру именного знака.
Н. Васильева в своих исследованиях природы имен собственных обнаружила важную составляющую. Дело в том, что имена, будучи языковыми ярлыками, в то же время в речевых актах способны передавать адресату дополнительную информацию (например, знания о национальной принадлежности или социальном статусе именуемого объекта).
Кроме того, в процессе своего развития онимы накапливают различные ассоциативные ряды, концентрирующие вокруг себя фоновые знания [11].
Ранее мы подчеркивали, что в последние десятилетия в лингвистике широкое распространение получил антропоцентрический подход к исследованию языковых феноменов.
Эта тенденция свидетельствует о смещении исследовательской активности «от лингвистики «имманентной» с ее установкой рассматривать язык «в самом себе и для себя» к лингвистике антропологической, предполагающей изучать язык в тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением, духовно-практической деятельностью» [66, с.92].
В рамках антропоцентрического подхода наметились две основные теоретико-методологические линии исследования семантики имен собственных: лингвокультурологическая и психолингвистическая.
С позиций лингвокультурологии семантика онима рассматривается в качестве культурно обусловленного феномена и интерпретируется в терминах культурных кодов, культурных символов и стереотипов.
Так, в работе [39] все имена собственные рассматриваются в триаде «язык-нация-культура», отражающая тесную связь культуры и языка, а также единство лингвистического и экстралингвистического содержания.
На материале анализа антропонимов делается вывод о том, что они (т.е. антропонимы) являются знаками культуры в составе текстов семиотического пространства.
Авторами выделяется специфический класс лексики, имеющего как денотативные, так и сигнификативные (а также структурно-языковые) отношения – энциклопедический оним.
Энциклопедический оним представляет собой знак, функционирующий в особом этнокультурном пространстве, которое задает определенные аксиологические параметры (ценностные смыслы).
Подобные выводы делаются и относительно семантики топонимов.
С точки зрения лингвокультурологической функция топонимов не ограничивается именованием или идентификацией географических объектов [42]. Семантика топонимов содержит этно-культурную компоненту, которая отличается страноведческой репрезентативностью и является вместилищем культурно-исторических ассоциаций [84].
То, что топонимы имеют достаточно высокую национально-культурную маркированность, было показано в экспериментах ученых из Югорского государственного университета и Российского университета дружбы народов, которые были проведены в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра [4]. Они рассматривали эксперимент, как один из способов определения специфики восприятия имен собственных представителями различных народов.
Испытуемые – студенты 1-3 курсов Югорского государственного университета должны были в течение одной минуты записать первые пришедшие в голову слова (ассоциации) на стимул-гидроним «Манья».3 Количество реакций не ограничивалось.
В эксперименте участвовали граждане Российской Федерации, для которых русский язык является родным (72 человека), а также граждане Российской Федерации, для которых русский язык не является родным (49 человек) – представители народов ханты и манси.
Как показали результаты эксперимента, ассоциативные реакции русских коренным образом отличались от ассоциативных реакций народов ханты и манси.
Представители ханты и манси выбирали синтагматический тип ассоциирования. Первой ассоциацией на стимул «Манья» был гидроним (Манья – река) или ойконим – в общей сложности 80 % всех ассоциативных реакций.
У русских испытуемых «на формальные звуковые сходства онима-стимула и его ассоциацией приходится 72% от всех единичных (периферийных) «моя, имя, мантия, молния, мания» (5%) по скользящей шкале до «манки (манной крупы)» (5 реакций – 7%) через трансформации антропонима «Маша (Маня, Манька)» (13 единиц – 19%) к центру поля, представленного значительным количеством ассоциаций со словом «маньяк» (29 реакций – 41%)» [4, с.610].
По итогам эксперимента коллеги пришли к следующим выводам (приводим цитату из статьи):
«1. Студенты – ханты и манси – знакомы с топообъектом и либо ассоциируют географическое наименование с самим объектом (бывали в тех местах, видели на карте, слышали, читали…), либо, владея родным языком, предлагают в качестве ассоциации дословный перевод онима. Следовательно, при ассоциировании
для респондентов ханты и манси характерно неразличение топоназвания и топообъекта – срабатывает поиск немедленной аналогии между предметом и словом, вместо различения
деталей. Видимо, той же стратегией пользуются 14% русских по национальности участников фокус-группы, которым либо знаком топообъект или его наименование, либо знакомы основы мансийского языка, накладывающие отпечаток на сознание.
2. Русские участники эксперимента (71%),
вероятно, никогда не слышали ни о географическом объекте, ни о топониме. При идентификации, осмыслении незнакомого топонима, оформленного по правилам родного (русского) языка, используют такую стратегию сходства звукобуквенного комплекса, благодаря которой пытаются установить смысловые связи между
сходными по звучанию словами, функционирующими в их речи, значения которых им известны… <…> предположим, что испытуемые выделяют некоторые опорные звуки, сочетания
звуков, ассоциируя их с известными лексемами
в родном языке. То есть, малоизвестный (неизвестный) топоним при истолковании его значения рассматривается как слово родного языка: например, в случае с реакцией «Маня» исчезает «ь», в случае с «маньяк» – добавляется «к».
3. С точки зрения формально-грамматических особенностей ответы респондентов представлены в наших материалах реакциями-предложениями, словосочетаниями и словоформами. Причём реакции предложения встречаются только у представителей коренных народов (13
из 49 – 27%). У ханты – сложноподчинённые
конструкции, содержащие элемент сомнения, предположения: «Это река, которая, наверное, несёт очень много пользы»; «Думаю, что это
мансийское название реки, так как «мань» –это, наверное, «манси», я – «река»».
У манси – сложноподчинённые предложения утвердительного характера: «Маленькая деревня, которая сейчас уже не существует»; «Аманья в переводе с мансийского обозначает «маленькая река»», а также предложения с разными видами связи: «Манья в переводе с мансийского языка означает «маленькая река», раньше была деревня Аманья, которая сейчас не существует» [4, сс. 610-611].
В этом отношении топоним действительно является частью культурной среды того или иного этноса, отражающий его мироощущение и мироконструирование.
В настоящее время во многих работах преобладает мысль о природе топонима как свернутого кода культуры [12].
И. Королева пишет, что в процессе декодирования происходит раскрытие информационного поля топонима, которое содержит информацию разного типа (языковую, социальную, историческую, культурологическую и др.) [46].
И. Бубнова полагает, что наиболее эффективным способом декодирования информации в содержании топонимических единиц является анализ их ассоциативно-культурного фона [9].
Ассоциативно-культурный фон формируется множеством вербальных ассоциаций, связанных с именем собственным в составе фоновых знаний региональной языковой личности.
Региональная языковая личность представляет собой обобщенный образ носителя языка в том или ином регионе, обладающим определенным набором фоновых знаний, одной из основных единиц которых и является имя собственное (в частности, топоним).
Д. Ермолович рассматривает топонимы в качестве своеобразных символических памятников, влияющих на память нации [34].
Топонимы не только идентифицируют и номинируют, но также отражают и сохраняют социальный и исторический опыт народов. В этом отношении верными являются слова А. Суперанской о том, что топонимия является зеркалом истории [74].
Топонимы представляют собой результаты познавательной деятельности человека, осмысленного процесса номинации, приводящей к созданию этноязыковой картины мира [75].
Н. Глазачева выделяет в топонимике каждого этноса уникальные культурные сведения, которые отражают часть его концептосферы [16].
Концептосфера топонимов является вместилищем двух типов знания: она передает знания о мире (внеязыковые знания) и собственно знания о языке (т.е. знания о лингвистических категориях и значениях).
Анализу топонимов в качестве частей концептуальных систем («топонимические концепты») посвящена работа [35].
Л. Иванова пришла к выводу, что топонимические концепты не являются свернутыми знаниями о мире и не обладают набором смыслов, которыми оперирует носитель языка.
Топонимические концепты связаны с ключевыми словами культуры, обладающими 5 признаками: смысловая нагруженность; высокая частотность; известность для носителей культуры; способность порождать ассоциативные ряды; способность к метафорическому употреблению в речи [36].
Топонимические концепты неоднородны. В зависимости от различных критериев они могут идентифицироваться и как ключевые слова культуры, и как культурные концепты или прецедентные феномены.
Л. Иванова полагает, что прежде чем стать ключевым словом культуры или концептом, топоним должен в ходе своего функционирования обогатиться различными коннотациями (периферийными, понятийными, эмоционально-экспрессивными).
В каждой национальной культуре есть ключевые слова, специфичные только для нее. Л. Иванова в своих исследованиях выявила ключевые слова культуры (топонимические концепты) для русских.
В связи с обозначенными выше факторами Л. Дмитриева пришла к выводу о существовании топонимической личности, отражающей проявление человеческого фактора и языкового коллектива в топонимической системе [22].
Культурологический подход к описанию значения топонимов был использован создателями мультимедийного лингвострановедческого словаря «Россия».
Авторы обозначили цель словаря, как попытку оказать содействие изучающим русский язык в усвоении лексических единиц и языковых выражений, которые обладают этнокультурным компонентом семантики и сформировать у них культуроведческие компетенции [50].
Еще одним мейнстримным направлением в исследовании семантики имен собственных в рамках антропоцентрической парадигмы является психолингвистика.
В психолингвистике значение топонимов интерпретируется как особый тип значения, который представлен в языковом сознании носителей языка, реально функционирует в нем (например, в виде образов сознания, овеществленных языковыми средствами) и претерпевает определенные трансформации в ходе развития общества. В рамках такого подхода исследованы значения различных топонимов [25, 94].
Наше исследование так же проведено в рамках психолингвистического подхода; подробнее о теоретических и методологических основаниях наших исследований будет сказано позже.
Таким образом, в рамках второго параграфа была дана экспозиция одной из центральных проблем в современной ономастике, связанной с семантическим статусом имен собственных.
На сегодняшний день предложены разнообразные теории и гипотезы относительно семантики онимов, однако какой-либо единой точки зрения на данную проблему лингвисты не выработали.
Мы согласны с позицией профессора Уральского федерального университета М. Голомидовой, согласно которой в условиях новейшего этапа изучения ономастической лексики необходим поиск новых подходов, которые позволили бы расширить наши знания о специфике имен собственных [18].
Также мы солидарны с Т. Доржиевой, которая подчеркивает необходимость поиска частных методов анализа семантики имен собственных, одним из которых является ассоциативный эксперимент [21]. Ассоциация, как психологическая реакция, является наиболее подходящим инструментом, позволяющим обнаружить и упорядочить семантическое наполнение онимов.
Убеждены, что к единой точке зрения в вопросе о значении имен собственных лингвисты придут благодаря результатам экспериментальных исследований.
Дело в том, что важными индикаторами наличия потенциальной понятийности у имен собственных является возможность выделения ядерных и периферийных, интегральных и дифференциальных семантических компонентов, а также их связь с такими языковыми явлениями, как полисемия, синонимия, омонимия и антонимия.
Поскольку эти явления связаны с понятийной стороной слов, у имен собственных, претендующих на потенциальную понятийность, они должны так или иначе проявляться [86].
Эмпирические методы исследования имен собственных – прежде всего, эксперименты, должны дать ответы на поставленные вопросы. Полагаем, что для обнаружения сигнификативного элемента у имен собственных необходим доступ к языковому сознанию носителей языка, комплексный анализ полученного экспериментального материала, а также применение комбинированных методов исследования и интерпретации данных.
1.3. Психолингвистическое значение как феномен языкового сознания
Как было отмечено во введении, антропоцентрическая парадигма является одной из центральных научных парадигм в современной лингвистике.
Истоки данной парадигмы восходят к работам В. фон Гумбольдта, Х. Штейнталя, А. Потебни и др.
В. фон Гумбольдт отмечал, что язык является посредником между внутренним миром человека, с одной стороны, и миром вещей, с другой. Язык выступает средством формирования его мировоззрения и развития духовных сил.
В. фон Гумбольдт подчеркивал также, что «разные языки по своей сути, по своему влиянию на разные чувства являются в действительности различными мировидениями», а также «своеобразие языка влияет на сущность нации, поэтому тщательное изучение языка должно включать все, что история и философия связывают с внутренним миром человека» [цит. по 100].
Э. Бенвенист, говоря о неразрывной связи человека и языка, отмечал, что в мире существует только человек, который говорит с другим человеком, и язык тем самым является основой определения самого человека [8].
Э. Бенвенист пишет: «Язык предоставляет в некотором роде “пустые” формы, которые каждый говорящий в процессе речи присваивает себе и применяет к своему собственному “лицу”, определяя одновременно самого себя как я, а партнера как ты. Акт речи в каждый данный момент, таким образом, является производной от всех координат, определяющих субъект» [цит. раб. 8, с.297].
Развивая идеи Бенвениста, Ю.С. Степанов писал, что язык сконструирован по лекалам человека и это отражается в его структуре (т.е. в структуре языка). Следовательно, языковые феномены должны изучаться в соответствии с этими обстоятельствами, и лингвистика всегда будет наукой о человеке в языке и языке в человеке [8].
Традиционно лексикологи описывают значения лексических единиц (онимов, в частности), опираясь на словарные дефиниции. Таким образом, они ставят знак тождества между семантикой лексемы в языке и ее словарным описанием.
Однако в многочисленных и разнообразных контекстах употребления слов, а также в психолингвистических экспериментах обнаруживаются семантические компоненты, не представленные в словарных толкованиях.
Как показывают эксперименты (в частности, наши – см. главу III), значения имен собственных оказываются глубже и объемнее тех, что представлены в традиционных словарях. Эксперимент позволяет выявить множество разнородных сем, семем и семантем.
Экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, что на современном этапе развития лингвистики имеются, по меньшей мере, две крупные лексикографические парадигмы, которые предлагают два типа описания значений лексических единиц.
С одной стороны, это традиционная парадигма, в которой значения лексем описываются в соответствии с принципами редукционизма (т.е. сводятся к основным, ядерным признакам).
Значения лексем, сформулированные в соответствии с принципом редукционизма, являются их лексикографическими (или системными) значениями. Такой классический тип значения формулируется специально для толковых словарей.
Однако лексикографическое значение является искусственным конструктом, созданным специально для толковых словарей на основе минимального количества признаков.
Проблема в том, что представленные в толковых словарях дефиниции лексем не существуют в языке в данном семантическом объеме. Носитель языка понимает и использует лексемы в более широком смысле, что подтверждается, как уже было отмечено выше, экспериментальными исследованиями.
Альтернативный способ описания значений лексем используется в рамках антропоцентрической парадигмы с ее аппаратом углубленного и комплексного описания лексической семантики в опоре на экспериментальные данные.



