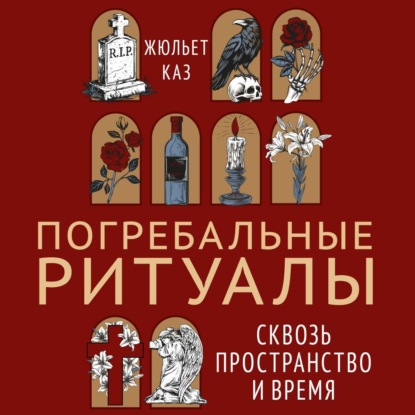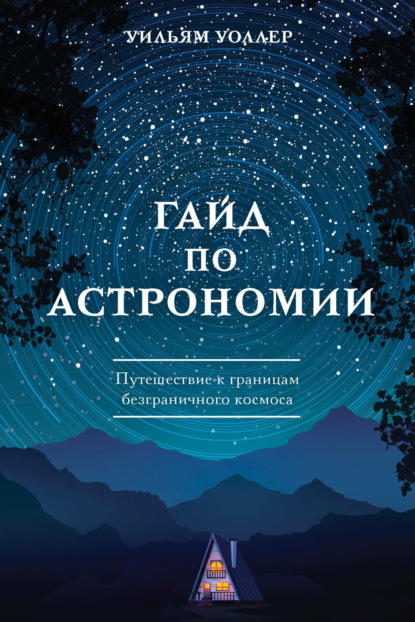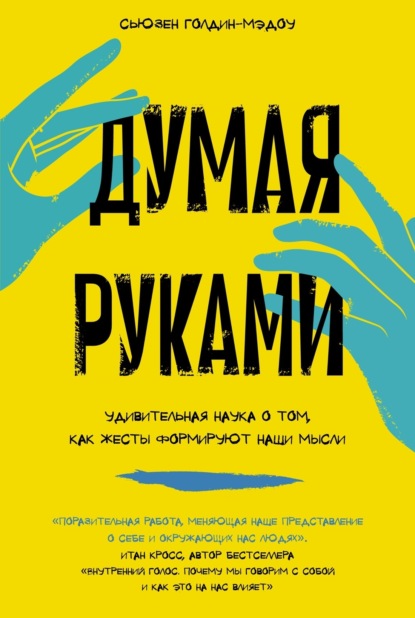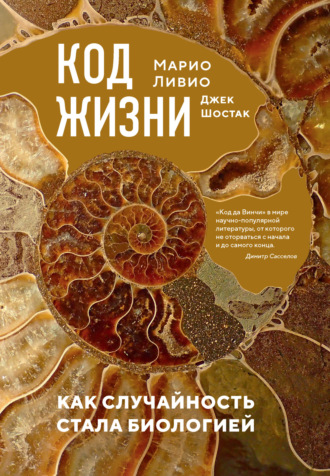
Полная версия
Код жизни. Как случайность стала биологией
Несомненно, есть и те, кто считает попытки синтезировать живую материю из химических веществ в лаборатории посягательством на некое «тайное знание», своего рода «игрой в Бога». Более того, опрос, проведенный исследовательским центром Пью в ноябре 2021 года, показал, что лишь одна шестая часть американцев не верит в загробную жизнь, а почти три четверти взрослых американцев верят в рай (а это, в сущности, все равно что верить, что жизнь зародилась не просто в результате химических реакций). Нам не кажется, что изучение происхождения жизни должно быть так или иначе табуировано. Мощная тяга к познанию всегда заставляла людей пытаться расшифровать тайны природы и ответить на всевозможные «Как», «Что» и «Почему». Если речь идет о чем-то вроде жизни, то есть о самом дорогом для нас, людей, разве можно вообразить, что нам не захочется узнать, откуда она взялась, или выяснить, ограничено ли ее распространение нашей Землей? Как выразился когда-то сам Галилей, «я не считаю себя обязанным верить, что тот же Бог, который подарил нам чувства, разум и логику, хотел бы, чтобы мы ими не пользовались». Но вот к тому, что делать с полученным знанием, мы, безусловно, обязаны применять все этические, моральные и человеческие принципы, чтобы решить, хорошо это или плохо.
Некоторые возражают даже против астрономических исследований и поисков внеземной жизни, считая это опасным. Но и здесь, хотя, конечно, никто не может гарантировать, какие отношения возникнут у человечества с существами, которые, вероятно, будут радикально отличаться от нас, мы не думаем, что кто-то сумеет остановить человеческую любознательность, которая всегда подталкивала исследовать далеко не только то, что нужно для выживания.
В очаровательной книге «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери есть замечательный диалог между рассказчиком и заглавным героем перед тем, как Маленький принц собирается вернуться на свою родную планету (астероид). Маленький принц говорит: «У каждого человека свои звезды… Но для всех этих людей звезды – немые. А у тебя будут совсем особенные звезды…» «Как так?» – недоумевает рассказчик. А Маленький принц отвечает: «Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь, – и ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться!»[15] Только представьте себе, что бы мы чувствовали, если бы и в самом деле точно знали, что на той или иной экзопланете кто-то живет – или если бы по-настоящему понимали, как появилась жизнь здесь, на Земле.
Наша исследовательская экспедиция начнется на нашей родной планете, на Земле. Поскольку жизнь на Земле – единственная форма жизни, с которой мы знакомы на сегодня, первый вопрос, над которым ломали себе голову химики, звучит так: могла ли жизнь на Земле возникнуть в результате обычных химических реакций? А точнее, могли ли живые протоклетки возникнуть из химических веществ, которые, как мы полагаем, существовали на молодой Земле? Чтобы ответить на этот важнейший вопрос, исследователи предбиологической химии прежде всего попытались выявить, какая череда химических реакций приводит к появлению строительного материала РНК и белков. Цель следующего шага очевидна: создать систему клеток, которая была бы способна эволюционировать по Дарвину. В ближайших четырех главах мы описываем эти поразительные исследования, рассказываем обо всех их провалах и успехах, о понятийных революциях, которые с неизбежностью при этом происходили. Естественно, без химии не обошлось, а мы отдаем себе отчет, что многие наши читатели «подзабыли» биохимию. Однако мы считаем, что нам представилась уникальная возможность снабдить заинтересованных читателей – возможно, впервые – самыми подробными и самыми свежими сведениями о невероятных достижениях в этой области в последние два десятилетия. Мы думаем, что три самых животрепещущих фундаментальных вопроса в науке – это как раз вопросы о происхождении: о происхождении вселенной, о происхождении жизни и о происхождении разума или сознания. Очевидно, если учесть современное состояние науки и техники, самым близким к разрешению на сегодня представляется вопрос о происхождении жизни.
Глава 2. Происхождение жизни: мир РНК
Знаете, жизнь – это как открыть банку сардин.
Мы все мечемся в поисках открывашки.
Алан Беннет в шоу «За гранью»Попытки найти путь от химических веществ и реакций на поверхности юной Земли к зарождению биологических структур с самого начала натолкнулись на множество препятствий. Прежде всего, возник непростой вопрос, о котором мы упоминали в главе 1, – вопрос сложности современных биологических процессов, где все зависит от всего остального по замкнутому кругу. Вспомним, к примеру, что молекулы ДНК и РНК нужны для кодирования информации, которая определяет создание тех самых белков, которые требуются для строительства ДНК и РНК. Эта сложность приводила к очевидным дилеммам причины и следствия типа «курица или яйцо». Однако была и другая, еще более фундаментальная проблема. Речь идет о вопросе, может ли вообще существовать химический путь, при котором стартовый набор соединений в результате какой-то последовательности шагов превращается в желаемые продукты, если в этих реакциях не участвуют ферменты и биологические механизмы контроля.
Некоторые исследователи прямо говорят, что шансов на то, что многошаговый химический синтез произойдет в природных условиях, исчезающе мало. Космолог и астробиолог Пол Дэвис, в частности, выдвигает следующий вероятностный довод. Предположим, что для зарождения жизни требуется последовательность из десяти определенных важнейших химических шагов (Дэвис полагал, что десять – это, мягко говоря, заниженное количество этапов, на самом деле нужно гораздо больше). Далее представим себе, что вероятность каждого шага составляет 1 % за период, пока планета остается пригодной для обитания (это опять же оптимистический прогноз). Тогда вероятность возникновения жизни сокрушительно мала – один шанс на сто квинтиллионов (т. е. 10–20), если быть точными.
Много лет подобные гипотетические трудности считались непреодолимыми препятствиями. Однако сегодня исследователи происхождения жизни считают, что они нашли способы, которыми Природа могла бы – хотя бы в принципе – решить такого рода заковыристые задачи, и это не может не восхищать. В этой и следующих четырех главах мы проследим за ходом впечатляющего прогресса, который был достигнут в последние годы в понимании происхождения жизни. В нашем кратком обзоре с неизбежностью встретятся труднопроизносимые названия соединений, участвующих в биохимических реакциях, и целые россыпи затейливых химических и физических процессов. Мы постараемся делать упор на кульминационных частях этой истории открытий и прорывов. Кроме того, мы надеемся пояснить, какие понятийные трудности приходилось преодолевать и какие остроумные решения для этих проблем придумали ученые. Надеемся, такой подход, пусть даже сложный для читателя, поможет оценить логику и красоту научного процесса, а также блестящий ум и терпение ученых.
Чтобы преодолеть первую проблему – проблему самореферентности современной биологии – ученые предложили, что когда-то существовала несколько отличная от нынешних, совсем простая первоначальная клетка, так называемая протоклетка. Однако эта гипотеза вызвала новые сложности (вдобавок к фундаментальному вопросу о том, как возникли сами эти структуры). В частности, ученым нужно было понять, как протоклетки росли и делились без тех сложных биохимических механизмов, которыми снабжены современные клетки. Чтобы преодолеть это препятствие, пришлось прибегнуть к процессу доказательства от противного – то есть взять все основные понятия и поставить их с ног на голову. Что-то похожее происходит в последние годы с индустрией такси. Когда хочешь основать таксомоторную фирму, первое, что приходит в голову, – у такой фирмы должен быть собственный автопарк. Обратное предположение: у таксомоторной фирмы нет своих автомобилей. Всего двадцать лет назад такая фраза звучала бы совершенно безумно. Но сегодня, напротив, самые крупные «таксомоторные» компании в истории – это Uber и Lyft. Исследователи происхождения жизни вынуждены были признать, что хотя у современных клеток есть внутренний биохимический аппарат, управляющий ростом и делением клеток (что дает клеткам возможность приспособиться к изменчивым условиям на планете), у первоначальных клеток, по-видимому, все было совсем наоборот. То есть протоклетки брали все необходимое – материалы и энергию – в окружающей среде, и именно флуктуации среды стали тем двигателем, который управлял ростом, делением и репликацией клеток.
Чтобы подробнее изучить вероятное происхождение и структуру первых клеток, нам нужно рассмотреть много дополнительных вопросов. Они касаются самых разных тем, от геологических сценариев и предбиологической химии до самой природы этих клеток и эволюционных событий, которые могли привести к возникновению современной жизни. При этом важно не ожидать ответов на все вопросы сразу: нужно понимать, что в попытках составить более полную картину нас ждет довольно много фальстартов, тупиков, отступлений и неудач. Вот лишь неполный список вопросов, на который нам придется ответить: каковы главные строительные материалы, необходимые, чтобы запустить процессы формирования клеток? Какие источники энергии, вероятнее всего, поддерживали необходимые химические реакции? Что требовалось, чтобы устроить уютное гнездышко для самых первых клеток? А главное, пожалуй, – сколько ниш в окружающей среде было нужно, чтобы возникла жизнь? Иначе говоря, не было ли такого, что жизни на Земле требовались одни условия для создания строительного материала и совсем другие – чтобы поддержать саму жизнь, когда она уже зародилась?
Помимо этих фундаментальных вопросов есть и множество других, иногда более конкретных. Например, хотя довольно соблазнительной представляется известная уже несколько десятков лет гипотеза о более простых временах в истории жизни, так называемая гипотеза мира РНК, согласно которой на некотором этапе эволюции жизни на Земле жизненными процессами управляли самовоспроизводящиеся молекулы РНК, эта гипотеза вызвала множество споров и вопросов, по большей части остающихся без ответа. В первую очередь, разумеется, сложно понять, как груды химических соединений, скопившиеся на поверхности молодой Земли, могли породить даже самые простые клетки мира РНК.
Загадки налицо и на других уровнях. Например, эксперименты, которые проводит в лаборатории Британского совета по медицинским исследованиям химик Джон Сазерленд, а также труды других наших коллег многое говорят нам о том, какие химические пути могли привести к созданию строительного материала для РНК – молекулярных соединений под названием рибонуклеотиды. Но те же самые эксперименты показали, что одновременно с материалами, из которых могли возникнуть предшественники РНК, с неизбежностью должны синтезироваться и другие близкородственные молекулы. Предбиологические химические реакции не зависели от белковых ферментов, которые контролируют синтез всего в современных клетках, и поэтому порождали гораздо более беспорядочную смесь продуктов. Тогда почему из этой каши материализовалась именно РНК, а не какая-нибудь ее «троюродная сестра»? С этим связан другой важный вопрос: может быть, на экзопланетах в качестве первой генетической молекулы жизни возникла не РНК, а какая-то другая молекула? Или, скажем, в природе химии как таковой есть нечто, что способствует возникновению именно РНК, и тогда любая жизнь во вселенной должна начинаться с тех же самых РНК-соединений? Казалось бы, такие масштабные вопросы относятся скорее к метафизике, чем к биохимии, однако недавние исследования показали, что на них можно получить убедительные ответы в результате систематического изучения химических закономерностей.
Вопрос о методике изучения мира РНК был поставлен перед научным сообществом лет тридцать назад, и сделали это химики Лесли Орджел и Джеральд Джойс. Первые попытки решить эту задачу заставили ученых задаться вопросом, как начать работу с тех же хаотичных смесей, которые создавали первые исследователи происхождения жизни, пытавшиеся экспериментально повторить предбиологическую химию. Этот камень преткновения – как перейти от запутанной мешанины к тщательно контролируемой химии, которую мы наблюдаем в живой клетке, – много лет казался непреодолимым, однако недавно череда неожиданных открытий показала, что ответ может быть довольно простым и даже тривиальным (разумеется, так кажется только задним числом).
Оказывается, вероятный ответ по крайней мере на эту ключевую загадку жизни – почему именно РНК, а не что-то другое – формулируется довольно неожиданно: потому что РНК всегда побеждает! Вот краткое объяснение. Представим себе, что мы начинаем с беспорядочного химического «бульона», в котором далеко не все вещества – это нужные предшественники для создания РНК. Теперь предположим, что эти вещества растворены в озерце воды на поверхности молодой Земли, где на них воздействует сильное ультрафиолетовое излучение молодого Солнца. Что удивительно (а может быть, и неизбежно, все зависит от точки зрения), эксперименты показали, что строительный материал РНК – самый устойчивый к ультрафиолету, а многие ее молекулы-кузины под воздействием ультрафиолета разрушаются. Это, несомненно, приближает нас к разгадке, но смесь у нас по-прежнему довольно сложная и беспорядочная. Следующий шаг к созданию ДНК требует, чтобы строительный материал сложился в цепочки – полимеризовался – то есть, в сущности, появились короткие одноцепочечные обрывки генетического материала. Этот этап пока что недостаточно изучен, однако предварительные данные указывают, что некоторые молекулы образуют такие цепочки особенно хорошо. В результате другие, менее реакционноспособные молекулы сходят с дистанции. Наконец, есть сама репликация – реакция, в ходе которой эти маленькие цепочки копируются, их копии копируются снова и порождают еще больше молекул-потомков. Шостак и его коллеги начали подробно изучать этот процесс, систематически сравнивая результаты, полученные при использовании разных стартовых наборов соединений. Пока что эти результаты показывают, что РНК всегда побеждает. Нуклеотиды, из которых состоит РНК, всегда реагируют быстрее конкурентов, поэтому РНК обычно синтезируется, а ее альтернативы либо строятся медленнее, либо их синтез вообще застопоривается. Мы можем представить себе эти три стадии – во-первых, сопротивление ультрафиолетовому излучению, во-вторых, ускоренная полимеризация и, в-третьих, более эффективное копирование – как некую последовательность фильтров. Изначальная мешанина, проходя эти фазы, постепенно очищается – сначала ультрафиолетом, потом созданием цепочек и, наконец, химическими реакциями копирования. И в конце концов получается относительно однородная РНК, чистая и готовая исполнить свое предназначение и породить мир РНК.
Не хотелось бы создавать у читателя впечатление, будто такой сценарий – как РНК победила в конкуренции, стала чемпионкой, породила жизнь и определила ее эволюцию, – непротиворечив и не подлежит критике. Напротив, все его аспекты вызывают жаркие споры. Вопрос о том, действительно ли только у молекулы РНК, в отличие от великого множества ее родственниц, есть свойства, необходимые для порождения жизни, – очень сложный, и определенного ответа на него мы в ближайшее время не получим. Безусловно, систематический синтез и исследования альтернатив исключат многих родственниц РНК, однако такой подход всегда будет оставлять у нас сомнения: вдруг есть еще какая-то молекула, которая подходит для наших целей так же, как и РНК, только мы еще не приняли ее в расчет?
Как же нам ответить на этот вопрос, хотя бы в принципе? Естественно, самым убедительным доказательством было бы обнаружение жизни на какой-то далекой планете (чтобы мы могли быть уверены, что она возникла там независимо от жизни на Земле). Но и это не решило бы дела. Действительно, для начала нам нужно найти убедительные признаки существования жизни на других планетах. Это открытие, если и когда оно произойдет, как минимум продемонстрирует, что жизни не так уж трудно зародиться, так как на ее пути нет каких-то непреодолимых препятствий. В этот момент мы поймем, что следует ожидать относительно несложного химического пути к возникновению жизни, у каждого этапа которого достаточно велика вероятность успеха. Но при этом все равно будет неимоверно сложно выяснить, действительно ли жизнь на экзопланетах тоже начинается с РНК – если только инопланетяне не окажутся разумными и не согласятся с нами разговаривать.
Взгляд в прошлое из современной жизни
В начале этой главы мы рассказали о том, как ошеломляющая сложность современной жизни воздвигла понятийный барьер, который годами мешал логическим рассуждениям о ее происхождении. Когда мы поняли, что первые живые организмы наверняка были очень простыми, а РНК играла в них главную роль и как средство хранения информации (хоть и не такое надежное, как ДНК), и как молекулярная основа первых ферментов-катализаторов (хоть РНК и не такой хороший катализатор, как белковые ферменты), это позволило ученым взглянуть на все по-новому, а упростившаяся картина обеспечила научный прорыв. В конце шестидесятых годов прошлого века трое ученых первыми поняли всю важность гипотезы, которую впоследствии назвали миром РНК. Это были Карл Вёзе, в дальнейшем прославившийся своими трудами по построению эволюционного древа жизни, Фрэнсис Крик, один из первооткрывателей структуры ДНК, и Лесли Орджел, один из трех первопроходцев в области предбиологической химии (о нем мы упоминали в главе 1). Все трое считали, что раз цепочки РНК умеют складываться в сложные трехмерные формы, из этого следует, что РНК может действовать как фермент, то есть способна катализировать химические реакции, совсем как белки. Из этого следовали самые головокружительные выводы: ведь если РНК способна катализировать собственный синтез, происхождение жизни сводится к происхождению самовоспроизводящейся РНК, то есть к РНК-репликазе (ферменту, катализирующему репликацию РНК на матрице РНК). К сожалению, в те годы все внимание научного сообщества было сосредоточено на разгадке тайн белковых ферментов, поэтому никто не воспринял всерьез мысль, что РНК может действовать как фермент, и этот важнейший ключ к происхождению жизни так и оставался незамеченным еще лет пятнадцать.
Новость, что молекулы РНК могут действовать как ферменты, поразила научное сообщество как гром среди ясного неба лишь в 1982 году. Тогда две независимые группы ученых открыли ферменты РНК, которые прятались у всех на виду, в двух совсем разных областях современной биологии. Том Чек, биохимик из Университета штата Колорадо в Боулдере, несколько лет изучал процессы сплайсинга РНК. Сплайсинг РНК сам по себе довольно загадочный процесс. Клетки копируют информацию, хранящуюся в ДНК, в длинные цепочки РНК, а потом удивительным образом вырезают и выбрасывают куски этой цепочки, разрезая ее дважды в середине и склеивая края разреза. Сплайсинг РНК распространен в биологии повсеместно, но его точный механизм оставался неизвестным вплоть до начала восьмидесятых годов прошлого века, и многие лаборатории наперегонки изучали его. Том Чек решил изучить сплайсинг у особого микроорганизма, инфузории с довольно заковыристым названием Tetrahymena thermophila – это ресничный одноклеточный организм, который часто обнаруживают в лужах и озерцах. У Tetrahymena thermophila есть одно удобное свойство: он создает очень много определенной РНК, которая затем подвергается очень простому сплайсингу, что делает эту инфузорию идеальным модельным организмом для его изучения. В то время считалось, что процесс сплайсинга проводят белковые ферменты, поскольку так обстояло дело со всеми остальными известными химическими реакциями в клетках. В соответствии с этой гипотезой Чек решил выделить белки, отвечающие за сплайсинг. Для этого ему требовалось сначала выделить не подвергшуюся сплайсингу РНК, а потом снова добавить к ней клеточные белки в надежде увидеть сплайсинг в реальном времени. Однако, к вящей своей досаде, Чек так и не смог отделить процесс сплайсинга от самой РНК. После долгих и упорных безуспешных попыток он пришел к убеждению, что РНК сама катализирует собственный сплайсинг.
Нет нужды говорить, что научное сообщество отнеслось к такому выводу с некоторым скептицизмом, поскольку оно еще не сомневалось, что все ферменты – белки. Критики даже заявили, что Чек просто не сумел очистить свой препарат РНК от белка-катализатора. Это невероятное предположение подтолкнуло Чека к тому, чтобы сделать все иначе. Он решил получить не подвергшуюся сплайсингу РНК не из клеток Tetrahymena, поскольку такой процесс и правда мог привести к непреднамеренному загрязнению препарата тем самым катализатором сплайсинга, ферментом, который Чек так долго искал. Вместо этого он создал не подвергшуюся сплайсингу РНК в пробирке, из ДНК и всего лишь одного бактериального фермента, который мог транскрибировать ДНК в РНК. И тогда Чек сделал поразительное открытие: подготовленная таким образом РНК не могла содержать никаких ферментов-катализаторов сплайсинга, но все равно подверглась сплайсингу сама по себе! Иначе говоря, в результате бесплодных попыток выделить белок, которого, оказывается, даже не существует, такой обходной путь позволил открыть совершенно новые и очень перспективные биологические вещества – РНК-ферменты, известные также как рибозимы.
Но на этом история не закончилась. Благодаря очередному потрясающему совпадению – «как видно, просто настало время» – именно тогда, когда Чек безуспешно пытался выделить свой фермент-катализатор сплайсинга, молекулярный биолог из Йельского университета Сидни Олтмен с коллегами изучали фермент, перерабатывающий РНК, – так называемую рибонуклеазу Р (РНКазу Р). Этот фермент разрезает некоторые клеточные РНК совершенно особым образом, и Олтмен обнаружил, что он состоит частично из РНК, а частично из белка. Опять же изначальное предположение состояло в том, что всю работу делает белковый компонент, а РНК-компонент играет вспомогательную роль, вероятно, распознавая РНК, которые белковому ферменту предстоит разрезать. Оказалось, что в ходе этого процесса белок несет очень большой положительный электрический заряд, и это понятно, ведь ему нужно связывать обладающий большим отрицательным зарядом РНК-компонент фермента, а тому, в свою очередь, необходимо связывать отрицательно заряженный субстрат РНК, который предстоит разрезать. Эта находка – большой положительный заряд – натолкнула Олтмена на бунтарскую идею, что белок, вероятно, всего лишь пассивный наблюдатель, чья роль сводится к стабилизации комплекса РНК путем нейтрализации большого отрицательного заряда. А если так, рассудил ученый, положительный заряд, вероятно, можно взять из совсем другого источника. И в самом деле, Олтмен и его коллеги обнаружили, что ферментная активность наблюдается безо всяких дополнительных белков, если добавить к РНК-компоненту рибонуклеазы Р достаточно катионов магния (каждый из которых несет положительный заряд 2+). Как часто бывает в науке, второй пример РНК-фермента вскоре породил целый фейерверк открытий маленьких саморазрезающихся РНК, а это окончательно утвердило ученых в мысли, что молекулы РНК и в самом деле способны катализировать химические реакции.
Открытие, что молекулы РНК могут действовать как ферменты, произвело переворот в представлениях о зарождении жизни. Важность этой находки была подчеркнута присуждением Чеку и Олтмену Нобелевской премии по химии за 1989 год. И тут внезапно первоначальные идеи Крика, Орджела и Вёзе о главной роли РНК показались очевидными. Одно открытие, позволившее упростить картину, избавило от необходимости представлять себе какую-то сложную схему, благодаря которой РНК и белки могли возникнуть одновременно. Вместо этого мы получили возможность думать о более ранней и простой форме жизни, в которой молекулы РНК играли двойную роль – и переносили наследственную информацию, и катализировали основные биохимические реакции в клетке. Именно эту гипотезу о первой форме жизни, где главным игроком была РНК, и популяризировал гарвардский биохимик Уолтер «Уолли» Гилберт, дав ей емкое название «мир РНК».
Гипотетически в мире РНК шли всевозможные химические реакции, катализируемые РНК, но самой важной из них, по-видимому, была репликация клеточного генома РНК как такового. Можно предположить, что эту функцию взял на себя какой-то РНК-фермент, который мы раньше уже упомянули и называли РНК-репликазой. Эта прямо-таки волшебная РНК представляла собой особую последовательность РНК, которая копировала сама себя, тем самым запуская экспоненциальную репликацию – один из важнейших признаков живой материи. Из-за такой важной роли в происхождении жизни так много лабораторий по всему миру мечтают сегодня синтезировать РНК-репликазу.