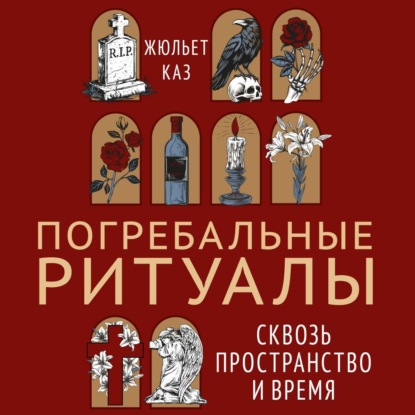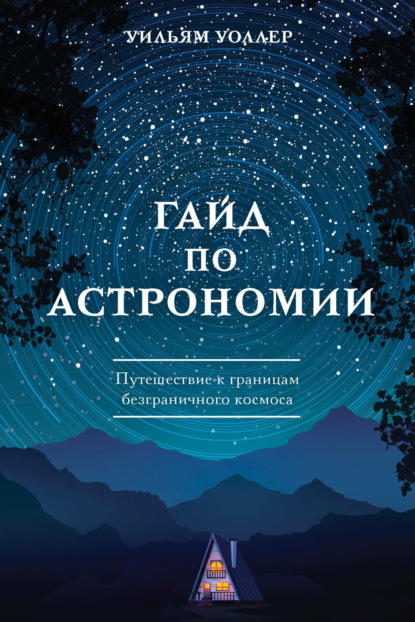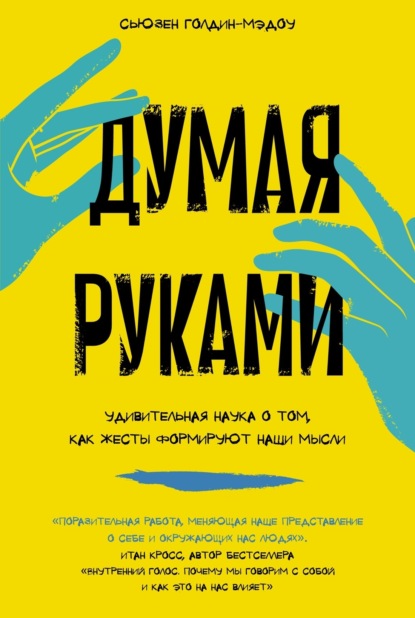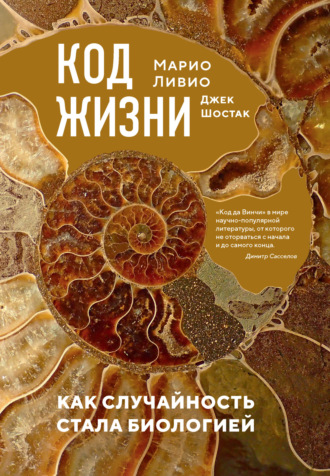
Полная версия
Код жизни. Как случайность стала биологией
Такая мысль – что жизнь – это не более чем комбинация сверхсложных химических систем – поначалу отпугивала очень многих. Жизнь, говорили эти скептики, устроена слишком хитроумно, чтобы возникнуть в результате случайных процессов, подчиняясь одним лишь законам физики и химии. А следовательно, даже среди тех, кто в принципе был готов смириться с химическим происхождением жизни, находилось немало таких, кто по-прежнему думал, что для этого требовалось какое-то невероятно редкое стечение обстоятельств – иначе все компоненты первых живых клеток не очутились бы одновременно в одном болотце.
Представление о внезапном возникновении сложных систем из хаотичного первичного бульона, содержащего простые химические вещества, подкреплялось еще и тем, как головокружительно сложно устроена вся клеточная жизнь на Земле в наши дни. А самое обескураживающее в этом хитросплетении – то, что все части и процессы живой материи зависят ото всех других частей и процессов, причем по кругу. Например, сложный метаболизм нужен для выработки биохимических веществ, которые нужны для синтеза ферментов, служащих катализаторами реакций… самого метаболизма! Подобным же образом молекулы нуклеиновых кислот ДНК и РНК необходимы для кодирования информации, описывающей синтез белков, рабочих лошадок живой материи, которые нужны для выработки… да, вы верно догадались, ДНК и РНК. Все еще усложняется тем, что для исполнения задач всем этим молекулам требуются клеточные мембраны, удерживающие все молекулы-участницы поблизости друг от друга. Однако клеточные мембраны состоят из гидрофобных соединений, так называемых липидов, а липиды синтезируются белковыми ферментами. Такая самозамкнутая, рекурсивная деятельность (напоминающая знаменитую гравюру Эшера, на которой две руки рисуют друг друга) так характерна для самых основ современных живых организмов, что многие годы казалось, будто потребовалось какое-то чудо, чтобы перекинуть мостик через пропасть между случайной смесью химических веществ и высокоорганизованной структурой живой клетки. Даже в 1981 году Фрэнсис Крик, один из первооткрывателей двойной спиральной структуры ДНК, подчеркивал, что «честный человек, вооруженный всеми доступными нам на сегодня знаниями, может лишь утверждать, что возникновение жизни в то время – это практически чудо, ведь столько условий требовалось выполнить, чтобы оно состоялось».
Нет нужды говорить, что такое отношение к зарождению жизни на Земле – как к какой-то дикой химической случайности – привело к крайне мрачным и пессимистическим оценкам вероятности, что мы обнаружим жизнь еще где-нибудь. В конце концов, возникновение жизни – переломный момент, знаменующий превращение экзопланеты из просто «пригодной для обитания» в действительно обитаемую. В результате лишь очень немногие астрономы в пятидесятые и даже в начале шестидесятых годов прошлого века осмеливались признаваться, что верят в существование внеземной жизни как таковой – а особенно разумной.
В конце шестидесятых маятник качнулся в другую сторону. Сначала это произошло в области биологии и химии. И все равно, чтобы преодолеть понятийные барьеры, воздвигнутые убеждением, будто возникновение жизни в результате химических реакций практически немыслимо, потребовалось целых два открытия, удостоенных Нобелевской премии, а также тотальный пересмотр наших представлений о происхождении жизни.
Первое открытие касается определения структуры особой молекулы РНК, так называемой транспортной РНК, или тРНК, участвующей в синтезе белков. Сложная трехмерная фигура, которую очерчивает нить этой нуклеиновой кислоты, вызвала у научного сообщества настоящее потрясение. В отличие от ДНК, относительно безликой и довольно жесткой – это просто двойная спираль с равномерной структурой, – РНК оказалась молекулой, состоящей из одной нити, затейливо скрученной, почти как белок. Химик из Корнельского университета Роберт Холли, который первым исследовал последовательность тРНК и изучал ее двумерную химическую структуру, получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1968 году совместно с Харом Гобиндом Кораной из Висконсинского университета и Маршаллом Ниренбергом из Национальных институтов здоровья. Вскоре после этого Аарон Клуг из Кембриджского совета по медицинским исследованиям и Александер Рич из Массачусетского технологического института описали неожиданную трехмерную свернутую структуру РНК.
Несколько ученых, в том числе сам Фрэнсис Крик и британский химик Лесли Орджел, быстро поняли, что может следовать из такой поразительной структуры. Она означает, что РНК может работать как фермент, биологический катализатор – точь-в-точь как белки. Затем Орджел выдвинул революционную идею, что первые живые организмы на Земле вполне могли обходиться вообще без ДНК и белков. Он предположил, что жизнь началась с одной только РНК! В то время это было смелое предположение, и идея, что РНК могла одновременно и нести в своей последовательности информацию, и катализировать химические реакции (прежде биологи считали, что это прерогатива исключительно белковых ферментов), была для большинства ученых абсолютно неудобоваримой. Лишь двадцать лет спустя химик Томас Чек и молекулярный биолог Сидни Олтмен совершили еще один научный подвиг, удостоенный Нобелевской премии, и действительно открыли РНК-ферменты (рибозимы). Это была судьбоносная веха, которая совершенно перевернула представления о происхождении жизни.
Открытие Чека и Олтмена означало, что РНК в принципе способна действовать как фермент и катализировать даже собственную репликацию, а это дарило надежду найти ответ на больной вопрос о курице и яйце. Внезапно мы получили возможность представить себе примитивную клетку, которая была куда проще любой ныне существующей. В такой гипотетической «протоклетке» молекулы РНК играли двойную роль – и несли генетическую информацию, и служили клеточными ферментами, обеспечивая основные функции клетки. А главное – в число этих функций входила репликация генетической информации. Согласно пересмотренному сценарию, ДНК и белки можно было считать более поздним «изобретением» эволюции, созданным специально для хранения информации и катализа химических реакций соответственно. Соблазнительное предположение, что когда-то в истории жизни все было проще и РНК одновременно играла все главные роли в ансамбле важнейших клеточных актеров – была и курицей, и яйцом, – получила название «Гипотеза мира РНК».
Со стороны астрономии прогресс поначалу несколько отставал, зато потом помчался вперед с головокружительной скоростью. Речь идет о том, что 6 октября 1995 года астрономы Мишель Майор и Дидье Кело объявили, что обнаружили первую планету, обращающуюся вокруг солнцеподобной звезды вне Солнечной системы. Неудивительно, что в 2019 году они получили за свое революционное открытие Нобелевскую премию по физике.
Парад пригодных для обитания планет?
Было бы справедливо сказать, что за последние 30 лет мы заметно приблизились к ответу на вопрос о множественности обитаемых миров, однако он все еще остается открытым.
К осени 2023 года астрономы открыли более 5500 экзопланет более чем в 4100 планетных системах. Более чем в 930 из этих систем обнаружено две и больше планеты. Кроме того, найдено более 7400 кандидатов в экзопланеты, открытых в первую очередь космическими телескопами Кеплер и TESS[10], и их статус ожидает подтверждения. Только представьте себе! Всего каких-нибудь 30 лет назад астрономия не знала ни одной планеты, которая обращалась бы вокруг других звезд, а сегодня достигнут такой колоссальный прогресс, и в нашей сокровищнице их многотысячные россыпи. Простая статистическая логика позволяет сказать, что наша галактика Млечный Путь буквально кишит планетами.
А что еще интереснее, по оценкам астрофизиков, по меньшей мере каждая пятая звезда размером с Солнце или меньше содержит планету размером с Землю в своей так называемой обитаемой зоне (а может быть, такие планеты встречаются у каждой третьей звезды или даже чаще). Обитаемая зона – это та самая «зона Златовласки»[11], кольцо вокруг звезды, находящееся как раз на таком расстоянии, чтобы температура на планете, подобной Земле, была не слишком высока и не слишком низка и подходила для стабильного существования жидкой воды (а может быть, и жизни).
Как правило, как только становятся известны параметры орбиты экзопланеты размером с Землю и свойства ее звезды (в том числе температура фотосферы, светимость и масса), можно как минимум оценить границы обитаемой зоны, исходя из состава атмосферы планеты. Считается, что атмосфера обычно состоит из азота, углекислого газа и водяного пара, и два последних компонента действуют как парниковые газы. Для определения, действительно ли планета «пригодна для обитания», следует учесть и другие факторы, например массу и химический состав атмосферы, геологические и геохимические процессы, скорость вращения планеты, наличие питательных веществ, доступность источника энергии, защищенность от вредного излучения и, естественно, тип и стабильность самой звезды. Тем не менее исследования показывают, что теоретически в галактике Млечный Путь может быть сотни миллионов, а то и несколько миллиардов потенциально обитаемых планет.
Эти поразительные астрономические открытия в сочетании с новыми многообещающими находками в области химии и биологии подхлестнули и поиски внеземной жизни, и попытки создать живую материю при помощи химических реакций. Поскольку эти данные сочетаются с уже имеющимися находками в области земной геологии, возникает искушение сделать вывод, что жизнь (в каком-то виде), вероятно, вездесуща. Что примечательно, геологи показали, что жизнь на Земле была довольно распространена уже 3,5–3,7 миллиарда лет назад, «всего» через несколько сотен миллионов лет после того, как земная поверхность достаточно остыла, чтобы стало возможным существование жидкой воды. Поэтому не стоит удивляться, что для многих оказался таким заразительным оптимизм покойного астронома Карла Сагана, вероятно, самого страстного и талантливого пропагандиста поисков внеземной жизни. Как-то раз Саган бодро объявил: «Должно быть, зарождение жизни – событие весьма вероятное: она возникает, как только позволят обстоятельства!» Тогда многие биологи были согласны с ним. Кристиан де Дюв, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, пошел даже дальше и провозгласил, что появление жизни во вселенной – это «космический императив».
По правде говоря, такая уверенность не оправдана. Осталось еще много вопросов без ответов и серьезных сомнений на всех уровнях. Например, в последние десятилетия биологи спорили о том, какая из главных характеристик живой материи – клеточная структура, метаболизм, катализ или генетика – появилась первой. Ученые – пожалуй, предсказуемо – раскололись на четыре больших лагеря. Группа «сначала метаболизм» утверждала, что способность задействовать ресурсы среды для поддержания жизни в организме было первой и главной способностью, которую требовалось развить. Представители второго лагеря возражали, что первой была генетика, то есть «сначала репликация» – способность порождать потомство, поскольку это и стало краеугольным камнем эволюции путем естественного отбора. Третья партия настаивала, что трудно представить себе генетику и метаболизм без тех агентов, которые способны поддерживать и ускорять ход химических реакций, а следовательно, «сначала катализ» – то есть для возникновения жизни необходимы белковые ферменты. И, наконец, были и сторонники теории «сначала компартментализация» – те, кто настаивал, что жизнь не могла начаться, если бы не приняла сперва форму крошечной ячейки, примитивной клетки, протоклетки, которая содержала бы в себе все важнейшие молекулы для поддержания жизненных процессов и отделяла бы их от среды. С годами члены каждой группы обретали такую страстную приверженность любимой теории и настолько утверждались в своем мнении, что на научных конференциях по происхождению жизни журналисты-популяризаторы не раз и не два слышали, как ученый из того или иного лагеря разносит в пух и прах идеи всех остальных групп. Наука едва не уподобилась политике.
Впрочем, именно эту проблему, похоже, удалось решить. Как ни поразительно, новейшие находки исследователей происхождения жизни, по-видимому, указывают, что подход к этому вопросу в последние четыре десятилетия, возможно, был ошибочен в принципе. Диспут о том, что было «первым», был спровоцирован тем, что, согласно общепринятому сценарию, нужно найти способ строить первые клетки по одной за раз, и каждый компонент должен прокладывать путь следующему. Этот подход сильно изменился в последние несколько лет. Современные представления состоят в том, что строительный материал для подсистем можно создавать одновременно. Ученым удалось показать, что несколько простых химических соединений, которые были легко доступны на молодой Земле, могли запустить сеть химических реакций (их мы подробно опишем в следующих пяти главах), способных дать – в сущности, одновременно – нуклеиновые кислоты (основу генетических молекул), аминокислоты (из которых состоят белки) и липиды (вещество клеточных стенок). Иными словами, эксперименты в лаборатории соавтора этой книги Джека Шостака, революционные открытия в лаборатории химика Джона Сазерленда и исследования множества их коллег указывают, что первые клетки, при всей сложности и филигранности их структуры, могли возникнуть из относительно небольшого набора нужных «кирпичиков». Поэтому сегодня ученые ставят перед собой достаточно смелые цели. Они уже не изучают отдельные составляющие, а пытаются нарисовать единую полную картину, такую, которая успешно сочетала бы все имеющиеся данные лабораторных экспериментов по предбиологической химии (химии, которая предшествовала жизни и посредством которой мог быть синтезирован строительный материал для живой материи) с данными астрофизики, геологии и науки об атмосфере, чтобы установить, каким был путь к жизни. В этом отношении можно рассчитывать на новые перспективы геохимических исследований Марса (которые станут возможными, когда на Земле получат пробы марсианской почвы). Их результаты, вероятно, позволят сделать рывок в вопросе о происхождении жизни, поскольку мы получим возможность изучить раннюю среду, данные о которой были стерты из геологической истории Земли, так как процессы, протекающие на поверхности земной коры, привели к переработке существовавших тогда веществ.
Разумеется, ни блестящие астрономические открытия, ни уже достигнутые в лабораториях многообещающие результаты не дают определенного ответа на вопрос о том, что такое жизнь – дикая химическая случайность или космический императив. Законно было бы утверждать, что в отсутствие прямых данных, говорящих о непрерывном химическом маршруте к жизни, мы не можем считать, что даже при правильных условиях возникновение жизни неизбежно. Подобным же образом, если астрономы не нашли (опять же, на сегодня) достоверных признаков внеземной жизни, это никак не позволяет нам оценивать вероятность, что она существует. Нельзя надежно установить вероятность неизвестного процесса и еще не открытого явления. Британский физик Пол Дэвис в числе прочих справедливо подчеркивает, что, если во Млечном Пути так много «пригодных для обитания» планет, это не обязательно означает, что какие-то из них (помимо Земли) и в самом деле обитаемы. Мы до сих пор не знаем, насколько вероятно зарождение жизни на экзопланете даже с самой подходящей температурой и химическим составом. Даже благоприятные для жизни условия у нас на Земле могли возникнуть вопреки всему, а уж появление разумного вида, вероятно, явление еще более редкое, а вовсе не ожидаемый результат эволюции как таковой. В частности, существование людей, вероятно, стало следствием череды совпадений космического масштаба. Скажем, люди не появились бы, если бы около 66 миллионов лет назад Земля случайно не столкнулась бы с астероидом, что привело к вымиранию динозавров.
Последнее соображение заставляет задаться вопросом, бесспорно, столь же интересным, сколь и вероятность существования внеземной жизни как таковой. Существует ли в Млечном Пути какая-то форма сложной или «разумной» жизни? В сущности, очевидное противоречие между тем, что мы до сих пор не видели никаких признаков разумной жизни вне Земли, и тем, что мы, согласно нашим ожиданиям, уже должны были заметить какие-то свидетельства существования технологически развитой цивилизации (техносигнатуры), получило название «парадокс Ферми» в память об известной беседе, когда знаменитый физик Энрико Ферми внезапно спросил у коллег: «Ну и где все?»[12]
Ферми выражал изумление из-за того, что до сих пор не замечено никаких признаков существования другой разумной жизни в Млечном Пути. Ферми оценил, что при некотором наборе вполне консервативных, по его мнению, допущений развитая технологическая цивилизация достигла бы всех уголков нашей Галактики за время значительно меньше, чем возраст Солнечной системы. Поэтому тот факт, что мы обнаружили их ровно ноль, сильно озадачивает. За эти годы было предложено много вариантов решения парадокса Ферми, однако так и нет консенсуса по поводу того, есть ли среди них хотя бы одно верное. Можно с полным правом утверждать, что само по себе наличие такого количества предположений указывает на то, что пока не выдвинуто ни одного по-настоящему убедительного варианта. Но главное – парадокс Ферми заставляет задуматься о неприятной вероятности, что существует какой-то «вселенский фильтр», какое-то узкое место, которое сильно осложняет возникновение, какие-то этапы эволюции или долгосрочное выживание разумной цивилизации. Первым это предположение выдвинул в 1996 году экономист из Университета Джорджа Мейсона Робин Хансон. Если так, подобное обстоятельство может иметь тяжкие последствия даже для жизни на Земле. Этот фильтр или порог вероятности мог существовать в прошлом нашей цивилизации, и тогда мы – одна из немногих цивилизаций (а может быть, и первая), которым удалось его преодолеть. Это возлагает на наши плечи гигантское бремя ответственности. Однако фильтр может быть и у нас в будущем, а тогда пандемия COVID-19 и нынешний климатический кризис – лишь детские игрушки, репетиция поджидающей нас неподъемной задачи пережить такой фильтр. К парадоксу Ферми и следствиям из него мы еще вернемся в главе 11.
* * *Надеемся, это краткое введение показало, что астрономы, планетологи, исследователи атмосферы, геологи, химики и биологи – большое сообщество, в которое входим и мы, авторы этой книги, – пытаются найти ответы на наболевшие вопросы, но у нас для этого еще нет полных данных. При всех колоссальных достижениях научно-технического прогресса, свидетелями которых мы стали в последние десятилетия, мы так и не узнали, что такое зарождение жизни – крайне редкая химическая случайность (и тогда мы одни в Галактике) или химическая необходимость (что потенциально делает нас участниками огромной галактической выборки). Каждый из этих вариантов влечет за собой свои далеко идущие научные, философские, практические и даже религиозные последствия. Возможно, они даже продиктуют нам, как действовать, если возникнет угроза для нашего существования – как вызванная нашими же действиями, так и грядущая из космоса. В некотором смысле инопланетная жизнь или ее отсутствие может служить зеркалом, в котором мы рассмотрим и обдумаем не только собственные достижения, но и просчеты и недостатки. Инопланетяне, если они существуют, помогут нам сформулировать и определить, что же такое быть человеком.
Чтобы разгадать все эти загадки, нужно проделать вполне конкретные действия. Примерно четыреста лет назад Галилей одним из первых прочертил нам дорожную карту, которой мы должны следовать, чтобы разобраться в устройстве космоса. Единственный способ открыть законы природы, утверждал он, – терпеливые эксперименты и прилежное наблюдение, что в дальнейшем приведет к продуманной теории. Теории, в свою очередь, следует проверять дальнейшими экспериментами и наблюдениями. Такова основа так называемого Научного Метода – несколько идеализированного эмпирического процесса обретения знания. Как заметил когда-то сам Шерлок Холмс: «Строить теории без данных – непростительная ошибка. Незаметно для себя начинаешь подгонять факты под теорию, вместо того чтобы теория подгонялась под факты»[13]. Следует и дальше одновременно проводить лабораторные эксперименты с целью найти химический путь создания живой материи (если он есть) и астрономические наблюдения с целью обнаружить признаки внеземной жизни (опять же, если они не исключительно редки). Лабораторные эксперименты, в свою очередь, проводятся в два этапа. Сначала химикам нужно хорошо понять, какой биологический строительный материал мог синтезироваться на молодой планете. Затем, как только возникнут нужные биологические молекулы, биохимикам нужно понять, как коллекция таких молекул может самоорганизоваться, чтобы функционировать подобно живой клетке. Далее эти находки сообщат геологам, планетологам, исследователям атмосферы и астрономам, какая среда необходима на планете, чтобы там могла возникнуть жизнь.
Как мы подробно объясним в дальнейшем, астрономы учли, с какими объективными трудностями сопряжен поиск жизни в неизмеримо огромной вселенной (и даже в нашей родной Галактике), и, чтобы повысить шансы на успех, разработали трехсторонний план наступления на эту проблему. Первое направление – поиск признаков внеземной жизни в Солнечной системе в прошлом или настоящем. Второе – поиски признаков жизни (биосигнатур) в атмосферах похожих на Землю экзопланет, находящихся в пригодной для обитания зоне около своих звезд. Третье – попытки срезать углы во всем процессе поисков, обнаружив признаки существования разумной, технологически развитой цивилизации. Вот краткое описание всего нескольких уже имеющихся и запланированных на ближайшее будущее астрономических программ. Успешный запуск космического телескопа имени Уэбба в Рождество 2021 года и подготовительные поиски подходящих для него экзопланет при помощи обсерватории TESS дали астрономам возможность впервые охарактеризовать или по крайней мере обнаружить атмосферы у относительно маленьких каменистых экзопланет, а также экзопланет несколько большего размера с океанами на поверхности (так называемых суб-Нептунов). Дальнейшей целью этих исследователей станут поиски газов, которые настолько далеки от химического равновесия, что не могут возникнуть в результате чисто абиотических процессов (то есть не имеющих отношения к живым организмам). В частности, как мы увидим в главе 9, обнаружение очень насыщенной кислородом атмосферы заставит предположить, что эта планета – кандидат в обитаемые, поскольку мы знаем, что весь кислород в атмосфере Земли возник по одной причине – по причине наличия жизни.
Вскоре будут запущены и другие интересные проекты. В 2028 году должен начать работу Европейский чрезвычайно большой телескоп диаметром 39 метров. Этот телескоп, который станет самым большим «глазом в небо» в оптическом и ближнем инфракрасном диапазоне, вероятно, сумеет даже получить изображения землеподобных экзопланет. Одновременно в обсерватории Лас Кампанас в чилийской пустыне Атакама будет установлен Гигантский Магелланов телескоп диаметром 25 метров, а в обсерватории Мауна-Кеа должен появиться Тридцатиметровый телескоп. Как планируется, эти телескопы начнут наблюдения примерно в 2030 году.
Набирают размах и поиски внеземных техносигнатур, которые были начаты еще в рамках программы SETI[14]. В дополнение к Антенной решетке Аллена, первые 42 элемента которой были построены в Радиообсерватории Хэт-Крик в сельской местности на севере Калифорнии, есть и другие проекты – например, Breakthrough Listen, нацеленный на наблюдения примерно миллиона ближайших звезд в радио- и оптическом диапазонах. В конце 2019 года Breakthrough Listen наладил сотрудничество с TESS и теперь будет сканировать планеты, открытые TESS. В число задач китайского Сферического телескопа с пятидесятиметровой апертурой также входит «обнаружение межзвездных коммуникационных сигналов». Кроме того, существует проект «Галилео», который в дополнение к традиционной программе SETI ищет физические объекты, а не электромагнитные сигналы, то есть артефакты, которые можно связать с внеземным технологическим оборудованием.
Было бы преувеличением утверждать, будто мы уверены, что до открытия внеземной жизни рукой подать. Однако и эти, и многие другие начинания дают нам веские причины для оптимизма. Если жизнь в Млечном Пути распространена повсеместно (или если нам просто очень повезет), мы вполне можем в ближайшие десять-двадцать лет открыть обитаемую планету.
Мы считаем, что открытие внеземной жизни, особенно разумной, или синтез живой материи в лаборатории станут открытием, которое затмит и дарвиновскую, и коперниковскую революции вместе взятые. И мы хотим разделить с вами, читатель, места в первом ряду, откуда мы вместе будем наблюдать увлекательное путешествие к этим грандиозным целям. Мы искренне убеждены, что наше поколение, скорее всего, сыграет эту судьбоносную роль в истории человечества – первым узнает, откуда мы взялись и одиноки ли мы в Галактике. Мы, авторы, больше всего на свете боимся, что эти фундаментальные открытия будут сделаны, когда нас уже не станет на свете. Неудивительно, что неизбежность смерти лишь подчеркивает смысл поисков жизни.