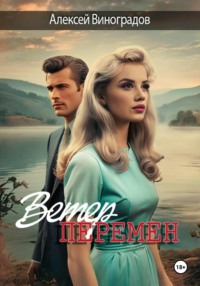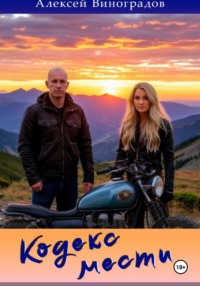Полная версия
Эхо твоих обещаний
– Василий… – растерянно улыбнулась она. – Конечно, помню. Просто не ожидала.
– Да я тебя сразу узнал! – обрадовался он. – Ты почти не изменилась. Ну, стала, как барышня из столицы, а глаза те же. Садись, подвезу. Куда, говоришь? Калинина? Это к твоим родителям?
Аня кивнула и села в машину, пахнувшую бензином и ароматизатором «Сосна». Она смотрела в окно на проплывающие знакомые улицы, а в голове звенело: «Они все еще здесь. Все эти люди, все эти истории. Они не исчезли. Они просто ждали, когда я вернусь». И это осознание было одновременно пугающим и странным образом утешительным. Ее жизнь в Москве оказалась мыльным пузырем. А здесь, в Озёрске, все было по-настоящему. Даже сломанные когда-то велосипеды. Машина тронулась, мягко подпрыгивая на знакомых колдобинах асфальта. Василий бросил на нее искоса заинтересованный взгляд.
– Ну, Ань, рассказывай, как дела? – начал он, ловко крутя ярулем. – Слышали, ты в Москве, большим начальником стала. Верно, что ли?
Его вопрос прозвучал без капли зависти, скорее с оттенком деревенской гордости – вот, мол, наша девочка, вышла в люди. Аня снова почувствовала тот же стыдливый диссонанс, что и в поезде. «Большой начальник». Для него это, наверное, что-то вроде директора завода. Он не представлял себе стеклянных небоскребов, стрессовых совещаний и Тимура Глебовича.
– Да как все, Вася, – отмахнулась она, глядя в окно. – Работа, суета.
– Понимаю, понимаю, – кивнул он, словно и впрямь понимая. – А семья? Муж, детки?
Вопрос, обычный для любой подобной встречи, кольнул ее с неожиданной силой. Она потянулась к воображаемому обручальному пальцу, которого там не было.
– Нет, – коротко ответила она. – Некогда было.
В салоне повисла короткая, но выразительная пауза. Для Василия, человека из мира, где к тридцати годам обычно растишь уже второго ребенка, это было странно.
– Да? – только и смог он выдохнуть. – Ну… работа, она, конечно, важная штука… А Лев? – вдруг спросил он, переключая передачу. – Он же, вроде, здесь остался. Не виделись еще?
– Я только приехала.
Имя, прозвучавшее в тесном салоне, ударило по ней, как обухом. Воздух перестал поступать в легкие. Она видела, как сжались ее собственные пальцы на сумке.
– Нет, – голос ее сорвался на хриплый шепот. Она прочистила горло. – Нет, я только что приехала.
– А, понятно, – Василий, кажется, наконец почувствовал, что наступил на минное поле, и поспешил сменить тему. – Ну, ты не переживай насчет отца. У нас тут кардиолог новый молодой, но толковый. Скорая, я слышал, сразу забрала, все по уму. Все будет хорошо.
– Спасибо, – тихо сказала Аня, чувствуя, как ее сердце начинает биться чуть спокойнее. – Надеюсь.
Он свернул на улицу Калинина, и она увидела знакомый двухэтажный дом с резными наличниками, где прошло ее детство. В окне горел свет.
– Вот и приехали, – Василий заглушил двигатель. – С тебя, так уж и быть, двести рублей. Для землячки.
Аня расплатилась, борясь с внезапным комом в горле.
– Спасибо, Вася. За все. И за велосипед тогда, и сейчас.
– Да ладно тебе! – он смущенно махнул рукой. – Береги отца. И себя заходи как-нибудь, если что. Я тут все на этом месте.
Она вышла из машины и осталась стоять на тротуаре, глядя на освещенное окно. Такси развернулось и уехало, а она все не могла сдвинуться с места. Этот короткий разговор встряхнул ее сильнее, чем вся дорога из Москвы. Он был как краткий, емкий урок о ее жизни: «Большой начальник» без семьи, без мужа, без детей. И единственный человек, о котором ее спросили, был тот, чье имя она десять лет пыталась вычеркнуть из памяти. Сделав глубокий вдох, она наконец направилась к калитке. Ее прошлое было не где-то там. Оно было здесь, за этой дверью. И ему, похоже, было что ей сказать.
Аня медленно подошла к калитке. Тот самый скрипучий завиток железа, который она в детстве считала рукой какого-то сказочного существа. Дом. Двухэтажный, с резными наличниками, которые когда-то белил ее отец, а теперь краска на них облупилась и потрескалась. С маленьким палисадником, где вместо маминых роз теперь буйно рос скромный, неприхотливый шиповник. Он казался таким же. Но таким другим. Постаревшим, чуть сгорбившимся, как и его хозяева. Сердце заколотилось где-то в горле. Она толкнула калитку – та издала тот самый, до боли знакомый, визгливый звук. Шаг. Еще шаг. Она подняла голову и увидела в окне фигуру матери – она стояла, прижав ладони к стеклу, и всматривалась в темноту. Аня ускорила шаг. Дверь распахнулась раньше, чем она успела до нее дотронуться.
– Анечка! Доча!
Мать. Ее всегда такая стройная и подтянутая мама, казалась меньше, будто усохла. Седина в волосах, которую она так тщательно закрашивала, теперь пробивалась серебром у висков. На лице сеть морщин, которые стали такими глубокими за эти десять лет. Но глаза те же, лучистые, полные любви и сейчас бездонного облегчения. Она обняла ее так крепко, что у Ани перехватило дыхание. Пахло домашним борщом, яблочным пирогом и временем.
– Мама…– сказала Аня, и прижалась в материнское плечо чувствуя, как по щекам текут горячие слезы. Все московские доспехи осыпались в этом объятии.
– Заходи, заходи, дочка, не стой на пороге.
Мать потянула ее в дом, в прихожую, где все так же висел старый ковер и стояла этажерка с телефоном. И тут из гостиной, опираясь на палку, вышел он. Отец. Аня замерла. Он был в старом халате, и лицо его было серым, осунувшимся. Но глаза, эти ясные, голубые глаза, в которых когда-то отражалось небо с мотоцикла «Урал», светились тем же безграничным теплом.
– Папочка… – ее голос сломался.
– Вот и моя девочка приехала, – сказал он тихо, и его голос был немного хриплым. – Я же говорил, не надо тревожиться. Видишь, живой.
Она подошла и осторожно обняла его, боясь причинить боль. Он казался таким хрупким. Она чувствовала, как выпирают его лопатки под халатом. Это был не тот богатырь, что когда-то носил ее на плечах.
– Как ты мог не сказать?! – вырвалось у нее сквозь слезы, в которых смешались страх, упрек и бесконечная нежность.
– А чтобы ты вот так, сломя голову, мчалась? – он потрепал ее по волосам, как в детстве. – У тебя же работа, жизнь своя.
– Какая работа… – махнула она рукой, утирая слезы. – Вы моя жизнь.
Они стояли втроем в тесной прихожей, постаревшие родители и повзрослевшая дочь, вернувшаяся домой после долгой войны, о которой они ничего не знали. Дом был тем же. Но все было другим. И самая большая перемена была в ней самой, в том, как остро, до физической боли, она вдруг ощутила цену этих десяти лет и хрупкость того, что она так отчаянно пыталась оставить в прошлом.
Глава четвёртая
Мама, хлопоча, ушла на кухню ставить чайник, бормоча что-то про то, что дочка с дороги, надо согреться. Аня помогла отцу дойти до его кресла у окна в гостиной. Оно было тем же самым, потрепанным, с вытертой обивкой, но стояло теперь не в центре комнаты, а в углу, будто старалось никому не мешать. Он опустился в него с тихим стоном, и Аня присела на краешек тахты напротив. Комната была залита мягким утренним светом, выхватывающим из полумрака знакомые вещи: сервант с хрусталем, который доставали только по большим праздникам, старый телевизор, вышитую бабушкой картину с аистом.
– Ну, рассказывай, – тихо сказал отец, устроившись поудобнее. Его пальцы бессознательно теребили край халата. – Как ты там, в своих небоскребах?
Аня пожала плечами, глядя в пол.
– Да нормально все пап. Обычно. Работа, дом.
– Нормально. – он покачал головой, и в его голосе прозвучала легкая, усталая усмешка. – Это когда дочь звонит раз в месяц на пять минут и говорит, что у нее “все нормально”? Это слово ничего не значит, Анечка. Оно пустое.
Она взглянула на него. Он смотрел на нее не как начальник на подчиненного и не как любопытный сосед. Он смотрел как отец, который читает между строк.
– Устала, что ли? – спросил он прямо.
Этот простой вопрос обрушил последнюю защиту. Слово «устала» оказалось ключом, отпирающим все шлюзы. Она кивнула, снова чувствуя, как по щекам текут предательские слезы. Она смахнула их тыльной стороной ладони с досадой.
– Да, пап. Очень. Постоянно. Там… там все время надо быть сильной. Быстрее, умнее, жестче. Там нельзя ошибаться. Там никто не пожалеет.
– А здесь можно, – просто сказал он. -. Здесь можно ошибаться. Можно быть слабой. Можно просто быть.
Он помолчал, глядя в окно на просыпающуюся улицу.
– А помнишь, как ты на “Урале” с пассажирского сиденья слетела, когда я тормознул? – спросил он неожиданно.
Аня улыбнулась сквозь слезы.
– Помню .Сильно?
– До сих пор шрам на коленке, – она кивнула.
– Вот. Упала. Ободралась. Я тебя поднял, отряхнул, перевязал. И мы поехали дальше. Никто не сказал, что ты неудачница. Никто не уволил. Просто жизнь.
Он перевел на нее свой ясный, мудрый взгляд.
– Ты все эти годы пыталась ехать, не падая. Так не бывает, дочка. От этого и устала.
Он протянул руку, и она взяла его ладонь в свои. Она чувствовала шершавую, потрескавшуюся кожу, знакомые каждую мозоль. Эти руки могли починить все что угодно – от мотоцикла до сломанной куклы. Но починить ее разбитое сердце десять лет назад они не смогли. Или она им не позволила.
– Прости, что не приезжала,– прошептала она.
– Всякому цветку свое время, – ответил он, пожимая ее пальцы. – Главное, что корни на месте. Ты вернулась к своим корням. А все остальное.
Он махнул свободной рукой.
– Все остальное наживное. И работа твоя, и эти небоскребы. А мы у тебя одни.
С кухни донесся запах свежезаваренного чая и слышалось радостное позвякивание посуды. Отец закрыл глаза, и на его лице на мгновение появилось выражение покоя. Аня сидела, держа его руку, и слушала тиканье старых часов-ходиков на стене. Этот простой, тихий разговор вскрыл в ней какую-то важную, затвердевшую оболочку. Она снова была просто дочкой. Просто Аней. И впервые за долгие годы это ощущение не казалось ей поражением.
– Почему, пап? Почему ты раньше не позвонил? – голос ее дрогнул. – Даже Васька-таксист знает, что у тебя проблемы с сердцем! Он мне сразу сказал: "Не переживай, у нас кардиолог новый толковый". А я ничего не знала! Я думала, у тебя, как всегда, спина болит, или давление скачет! А тут… "Скорая", больница… Почему ты скрывал?
Отец вздохнул, и взгляд его стал виноватым, уставшим. Он снова уставился в окно, будто ища ответа в знакомых очертаниях старого клена во дворе.
– А что бы изменилось, дочка? – тихо спросил он. – Стала бы ты звонить чаще? Приехала бы раньше?
– Конечно! – выдохнула она, но в ее голосе прозвучала фальшивая нота.
Смогла бы? Вырвалась бы из-под аврала, уговорила Тимура Глебовича? Или ограничилась бы лишь более частыми, но такими же короткими звонками? Он уловил эту долю секунды сомнения и мягко кивнул.
– Вот видишь. Не смогла бы. А я бы только лишний раз тебя побеспокоил. Ты там себе жизнь строила. Серьезную, важную. А тут… – он развел руками, указывая на комнату, на весь этот маленький, застывший мирок. – Тут все те же болячки да разговоры о погоде.
– Но я твоя дочь! – в голосе Ани снова зазвенели слезы. – Я имею право знать! Я должна была быть рядом!
– И была бы, – сказал он твердо. – Если бы стало совсем плохо. Мама бы тебе позвонила. Но пока я мог сам. Зачем пугать понапрасну? Чтобы ты мчалась сломя голову, как сейчас? Бросала все? Я не хотел быть обузой, Анечка.
Слово «обуза» повисло в воздухе, тяжелое и несправедливое.
– Ты никогда не был обузой! – сказала она.
– Для родителей их дети всегда дети, – он медленно поднялся с кресла, опираясь на палку, и подошел к ней.
Он положил руку ей на голову, как когда-то в детстве.
– И нам всегда хочется их оберегать. Даже когда они уже давно выросли и стали большими начальниками. Даже когда они сами думают, что могут обойтись без этой опеки.
Он помолчал, глядя на ее склоненную голову.
– Прости, если обидел. Не хотел. Просто… я привык сам справляться.
Аня закрыла глаза, чувствуя тепло его ладони. Она понимала. Она была его дочерью – такая же гордая, такая же упрямая, не желающая показывать свою слабость. Он не позвонил, потому что не хотел ее тревожить. А она не приезжала, потому что боялась вспомнить, как ей бывает больно.
– Ладно, хватит о грустном, – сказал он, меняя тему своим обычным, немного грубоватым тоном. – Иди, помоги матери на кухне. А то она там одна от радости всю посуду перемоет. А мне полежать надо, доктор велел.
Он медленно, с усилием, направился к своей комнате. Аня сидела и смотрела ему вслед, понимая, что этот тихий, гордый человек, научивший ее когда-то не бояться падений, сам теперь боялся упасть и стать для нее проблемой. И в этом осознании была такая щемящая, горькая любовь, по сравнению с которой все ее московские «проблемы» казались жалкими и ненастоящими Аня зашла на кухню, где пахло гречневым супом и детством. Мама, стоя у раковины, вытирала одну и ту же тарелку, словно в этом простом действии была ее отдушина.
– Папа прилег. – сообщила Аня, прислонившись к дверному косяку.
– Пусть поспит, – кивнула мать, наконец поставив тарелку на сушилку. – Доктор сказал, покой главное лекарство.
Она обернулась, и ее взгляд стал мягким, изучающим.
– Ну как ты, дочка? Правда, устала очень?
– Да уже лучше, мам, – Аня попыталась улыбнуться. – Просто многое в голове переворачивается.
Они помолчали. Тишину нарушало лишь тиканье часов с кукушкой, которые Аня помнила с пеленок.
– А вчера, – начала мама, снова принимаясь за свои хлопоты и отвернувшись к плите, – Лев звонил.
Имя, прозвучавшее так неожиданно и буднично, обожгло Аню, словно капля кипятка. Вся кровь отхлынула от лица.
– Мама, не надо, – быстро, почти резко проговорила она. – Не надо о нем. Я не хочу… Неважно.
– Спрашивал, как отец, – продолжала мать, делая вид, что не слышит ее протеста. – Очень беспокоился. Предлагал помочь, машину свою, если что…
– Небось, женат уже, дети? – выпалила Аня, и в ее голосе прозвучала не просьба, а требование подтвердить ее правоту, ее картину мира, в которой у него давно новая, счастливая жизнь. – Так и скажи, чтобы не беспокоился. У него своя семья.
Мама наконец повернулась к ней. В ее глазах светилось что-то сложное – и жалость, и какое-то странное знание.
– Нет, Анечка, – тихо сказала она. – Не женат.
Воздух застыл. Аня чувствовала, как пол уходит из-под ног.
– Что?
– И не пытался, насколько я знаю, – мама вытерла руки о фартук и подошла ближе. – Живет один. В своем старом доме, что на улице Садовой. Работает, вроде, в лесничестве. Тихий такой стал. Тень от себя прежнего.
Аня не находила слов. Она готовилась услышать о жене, о детях, о том, что он давно забыл ту глупую девочку с алой ленточкой. Это была бы больно, но понятно. Это укладывалось бы в логику ее жизни – она одна, он счастлив. Справедливая расплата за ее доверчивость. Но это. Не женат. И не пытался. Эти слова взрывали все. Они не оставляли ей удобной версии прошлого. Они заставляли задавать вопросы, на которые она боялась искать ответы.
– Почему? – спросила она, сама не зная, к кому обращается, к матери, к себе, к тому юноше, который так и остался стоять на поляне у реки.
– Не знаю, дочка, – покачала головой мама. – Никто не знает. Молчит он. Как партизан.
Она взяла чайник и начала наливать кипяток в заварочный чайник, и этот привычный, домашний звук казался теперь таким громким на фоне оглушительной тишины в голове Ани.
– Может, не все тогда было так, как тебе показалось? – осторожно бросила мама в пространство, не глядя на дочь.
Но Аня уже не слышала. Она стояла, глядя в стену, за которой в своей комнате спал ее больной отец, а в ее руинах рухнувшего прошлого вдруг пробился первый, неуверенный и пугающий росток сомнения. Тишину на кухне внезапно взорвал резкий звонок в дверь, а следом – голос, знакомый Ане с детства, громкий и пронзительный, как сирена.
– Мария! Открывай, это я, Люда! С гостинцем!
Мама метнула на Аню быстрый взгляд, смешанный с облегчением и легкой паникой. Новости в Озёрске распространялись со скоростью света, а тетя Люда с ее пирогами и сплетнями была главным информационным агентом района. Не успела Аня опомниться, как на кухню вкатилась дородная женщина с сияющим лицом, неся перед собой, как щит, огромный, румяный пирог с капустой.
– Мария, я как услышала, что Анечка приехала! Ну, думаю, не могу же я… Ой!
Она замерла на пороге, уставившись на Аню.
– Анечка, родная! Да ты совсем на столичную барышню стала похожа! Прямо не узнать!
Она поставила пирог на стол и, не дав Ане вставить слово, заключила ее в объятия, от которых пахло сдобным тестом и духами «Красная Москва».
– Здравствуйте, тетя Люда, – попыталась вынырнуть из ее объятий Аня. – Вы совсем не изменились.
– Стараюсь, родная, стараюсь! – тетя Люда отступила на шаг, оценивающе окинув Аню взглядом. – Ну, рассказывай! Как там, в Москве-матушке? Мужья-миллионеры, лимузины, приемы?
Аня застыла с глупой улыбкой, но мама поспешила ее выручить:
– Людмила, дай человеку чаю сначала выпить, с дороги ведь! Садись, пирог твой сейчас попробуем.
Тетя Люда уселась на стул, с явным намерением не уходить до тех пор, пока не выудит все новости.
– А у нас тут, Анечка, за время твоего отсутствия столько всего случилось! – начала она, понизив голос до конспиративного шепота. – Ты помнишь, Петровы, что через два дома жили? Так вот, их сын Игорь женился! Представляешь?
Аня, помнящая Игоря вечно сопливым мальчишкой на трехколесном велосипеде, с трудом подавила улыбку.
– И не на ком-нибудь, а на дочке Зайцевых! А Зайцевы-то, между прочим, теперь в шоколаде, гаражный кооператив купили. Так что Игорек наш теперь с перспективой!
Она делала паузы, давая информации усвоиться, и тут же перескакивала на новую тему.
– Светка, наша Светка, помнишь, с которой ты в одном классе училась? Троих родила! Муж у нее электрик, золотые руки! Вон, машину новую купили. А ты как, замужем? Нет? Да что ж это в Москве-то женихов нет?
– Люда! – мягко, но твердо остановила ее мама.
– А, ну ладно, ладно, не буду, – тетя Люда махнула рукой.– А знаешь, кто еще не женат? – она подмигнула Ане так многозначительно, что та похолодела. Но соседка, к счастью, имела в виду другого.
– Макар твой, бывший друг! Тот, что с тобой неразлучный был. Живет один, в городе, в квартире. Говорят, работы какой-то несерьезной занят, на дому. И невеста у него ни одна больше трех месяцев не задерживается. Неустроенный он какой-то.
Имя Макара заставило Аню внутренне сжаться, но тетя Люда уже неслась дальше, перескакивая на историю о том, как соседский кот съел у нее в огороде рассаду, и как она за этим котом с веником гонялась. Аня слушала этот водопад слов, этот вихрь абсолютно чужих, мелких и таких живых историй. И вдруг она почувствовала, как что-то внутри нее тает. Уголки ее губ дрогнули, потом она фыркнула, пытаясь сдержать смех над историей про кота, и, наконец, рассмеялась. Искренне, громко, до слез. Это был смех облегчения. Смех от нелепости и абсурда. После лет, проведенных в мире корпоративных интриг и холодных расчетов, этот простой, бесхитростный мир тети Люды с ее пирогами, свадьбой Игоря и вредителем-котом казался таким настоящим, таким человечным. Тетя Люда, видя ее реакцию, удовлетворенно хмыкнула:
– Вот, вот! Я всегда говорила, у Анечки смех заразительный! Очень на покойную бабушку твою, Веру, похожа стала, когда смеешься.
Аня вытерла слезы и откусила кусок пирога. Он был теплым, рассыпчатым и невероятно вкусным. Впервые за долгие годы она чувствовала себя не гостем, не приезжей, а просто частью этого маленького мира. И это чувство было пугающим и бесконечно уютным одновременно. Тетя Люда, сама того не ведая, принесла ей не просто пирог. Она принесла ей кусочек дома. Смех постепенно стих, оставив на душе легкое, почти забытое ощущение тепла. Поддавшись внезапному порыву, Аня, все еще улыбаясь, спросила:
– Тетя Люд, а старик Митрич то живой?
Вопрос вырвался сам собой, из самой глубины детства. Старик Митрич, вечно брюзжащий сторож у старого клуба, который вечно гонял их, пацанов, с футбольного поля и ворчал, что они мячом ему георгины посбивали. Тетя Люда фыркнула, отламывая себе еще кусок пирога.
– Конечно, живой! Что с ним будет-то? – она покачала головой с видом эксперта. – Крепкий старик, как кремень. Теперь уже не брюзжит, правда. Сидит на лавочке у того же клуба, только клуб теперь "Центр досуга" называется. И всех подряд конфетами угощает. Возраст, что ли, такой смягчился. А так все так же свою пенсию на конях просаживает, только теперь в телефоне своем это делает.
Представление о суровом Митриче, раздающем конфеты и ставящем на споры в смартфоне, было настолько нелепым и трогательным одновременно, что Аня снова рассмеялась.
– Ничего не меняется, – выдохнула она, глядя на кружащуюся в окне мушку.
– Как же не меняется-то! – возразила тетя Люда. – Меняется все. Только по-нашему, по-озерски, медленно. Не как у вас, в столицах. Вот увидишь сама.
– Увижу, – тихо согласилась Аня.
И впервые за этот вечер мысль о том, чтобы выйти за порог этого дома и увидеть улицы своего детства, не вызвала у нее приступа паники, а лишь тихое, щемящее любопытство. Возможно, тетя Люда была права. Возможно, некоторые вещи действительно заслуживали того, чтобы на них взглянуть заново.
Глава пятая
– Ладно, вы тут сидите, пирог доедайте, а я пойду погуляю, – объявила Аня, поднимаясь из-за стола. – Интересно же. Столько лет здесь не была.
Мама кивнула с пониманием, а тетя Люда тут же оживилась: -Только гляди, на Садовую не сворачивай, там асфальт кладут, всюду грязь! Выйдя на улицу, Аня глубоко вдохнула вечерний воздух. Он был сладким от цветущих лип и чуть влажным от близости реки. Она пошла не раздумывая, ноги сами несли ее по знакомым, протоптанным в детстве маршрутам. И вот он, бывший клуб, а ныне «Центр досуга». Фасад подкрасили, но контуры остались теми же. И как и предсказывала тетя Люда, на старой деревянной лавочке у входа сидел он, старик Митрич. Он ссутулился, опираясь на палку, и смотрел куда-то вдаль, на заходящее солнце. Аня широко улыбнулась и направилась к скамейке.
– Привет, дядя Митя -: сказала она мягко, чтобы не спугнуть.
Митрич медленно повернул голову. Его глаза, замутненные возрастом, внимательно изучили ее. И вдруг, в их глубине мелькнула искорка узнавания.
– Привет, Аня – ответил он ровным, немного хриплым голосом.
У Ани от неожиданности дыхание перехватило.
– О боже. Вы меня узнали?
Уголки губ Митрича дрогнули в подобии улыбки.
– А как не узнать? Ты все такая же задорная. Такая же, как тогда, когда за мячом ко мне в георгины летала.
Он ткнул пальцем в воздух по направлению к ее лицу.
– И улыбка у тебя красивая, широкая. И шрам на левой брови. Помнишь, как ты с того дуба у реки шлепнулась?
Аня невольно дотронулась до тонкой белой полоски над глазом. Эту историю она сама почти забыла. А он помнил.
– Помню, – тихо сказала она. – Вы тогда меня отругали на чем свет стоит, а потом все же платок из кармана достали, чтобы кровь вытереть.
– А ругался потому что испугался за тебя.
Он помолчал, а потом спросил, глядя куда-то мимо нее
– А Лев твой, он же здесь, в городе. Видалась с ним?
Вопрос, заданный так просто, без подоплеки, прозвучал как удар колокола. Аня покачала головой.
– Нет. Я только сегодня приехала.
– Зря, – просто сказал Митрич. – Он тебя ждал. Долго.
Сказав это, он снова уставился на закат, словно исчерпав запас слов на сегодня. Разговор был окончен. Аня постояла еще минуту, потом тихо сказала
– Будьте здоровы, дядя Митя.
Он лишь кивнул в ответ. Она пошла дальше, к реке. Слова старика горели в ее ушах: «Ты все такая же… Он тебя ждал.» Она была той же? И он ждал? Сердце забилось чаще. Ей вдруг отчаянно захотелось увидеть то самое место. Ту поляну. То дерево. Увидеть, осталось ли что-нибудь от их прошлого, или время стерло все, как стирает надпись на мокром песке. Тропинка к поляне за прошедшие годы почти исчезла, заросла крапивой и лопухами. Аня шла, ощущая, как сердце колотится где-то в горле. Казалось, еще миг и она увидит пустое место, давно забытое всеми. Но когда она отодвинула последнюю ветку ивы, ее ноги буквально вросли в землю.
Поляна была точно такой же. Трава чуть выше, деревья чуть раскидистее. Но то самое дерево, стояло посредине, могучий и неизменный. И на его ветвях… Аня медленно подошла ближе, не веря своим глазам. На ветвях висели ленточки. Десятки, сотни ленточек. Новые, яркие, и старые, выцветшие до бледных пятен. Они трепетали на вечернем бризе, словно листва из шелка и ситца. Это было живое, дышащее полотно из чужих надежд и обещаний. И среди этого разноцветья ее взгляд машинально пошел по знакомому маршруту – к той самой, крепкой нижней ветке. И она нашла их. Две ленточки. Синяя и алая. Они не просто висели. Они были аккуратно, бережно переплетены между собой, образовав прочный, двойной узел. Края их истлели, цвета потускнели, но они держались. Они все еще были вместе.