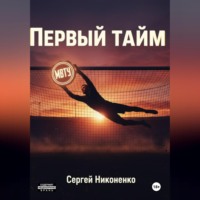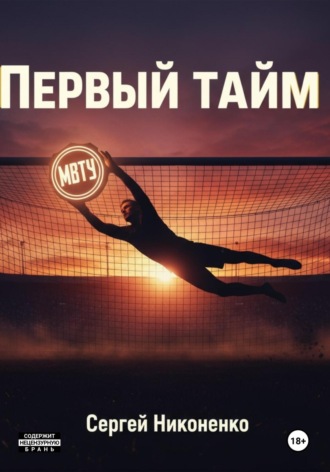
Полная версия
Первый тайм
Год оказался в определённом смысле переломным не только для меня, но и для брата. Он как раз закончил Тамбовский институт Химического Машиностроения, и был призван в ряды Советской армии. Так что ему до отъезда также остались считанные недели. Поступи Андрюха в своё время в Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники – судьба сложилась бы совсем иначе. Но братан хитроумно слился из Череповца, не без оснований полагая, что отслужить пару лет ещё туда-сюда, а служить всю жизнь, отдавая честь направо и налево в неизвестных удалённых и, вероятно, весьма горячих точках – ему не с руки.
В общем, несмотря на солидную музыкальную поддержку, лукавый родительский план не сработал. Вновь закуплены билеты на 31 московский поезд, опять мы с мамой поздним вечером в него погрузились, и на следующий день проехались уже известным маршрутом на 16-ю Парковую улицу к границе заросшего всякой растительной всячиной Измайловского парка.
В детстве мама научила меня играть в шахматы. По крайней мере, двигать фигуры. И как-то хозяин квартиры, горя энтузиазмом, предложил мне сыграть партию. Я долго отнекивался, справедливо полагая себя слабым игроком и совершенно не желая проигрывать. Но он был крайне настойчив. К моему удивлению, мужик не имел ни малейшего представления о «детском» мате в три хода, который я ему и продемонстрировал. Так что всегда найдётся кто-нибудь слабее даже в тех вопросах, где вы читаете себя абсолютным слабаком, вот вам мой финальный вывод.
В большой аудитории в старом корпусе Училища проходила профессиональная ориентация. Разглагольствовал качающийся на стуле то ли аспирант, то ли студент старших курсов, то ли электрик хозяйственного подразделения. Жизнерадостный парень, вправляющий мозги абитуриентам. Планировал я было поступать на специальность П-6 «ЭВМ и системы», но консультант со смехом меня разубедил. Оказывается, туда берут только москвичей, и существует большая разница в баллах. Для иногородних вступительный балл – 20, то есть все пятёрки, а для москвичей – 17. Можно подумать, да какая мне разница, если собирался сдавать только один экзамен? Но сомнения и отсутствие жизненного опыта одолевали.
– Что же тогда выбрать? – робко поинтересовался у молодого знатока.
– Да вот же, Автоматизированные Системы Управления! Туда идут одни иногородние. И общагу дают. Будете все вместе жить и учиться. Красота, одним словом!
В общем, я перестал сомневаться и определился с будущей, как свято надеялся, специальностью. П-5, «АСУ». Подписал какую-то бумажку и был свободен до экзамена. Пособие Мясникова у меня было с собой, посему быстро нашлось увлекательное занятие: очередное штудирование задачника, пока глаза не полезли на лоб от удовольствия и умственного избытка.
Не знаю, сдаёт ли нынешняя молодёжь какие-нибудь экзамены, вроде тех, через горнило которых прошло моё поколение. Ну, как горнило. Слово нравится, есть в нём что-то птичье, а смысл не очень. То ли дело: ЕГЭ. Слово какое-то потешное, но жизнеутверждающее во всех смыслах. Всех завели в огромную аудиторию, пофамильно обилетили и персонально приголубили, обеспечили бумагой и рассадили по местам. За каждым столом размещался индивидуально взволнованный абитуриент и трясущимися руками разглаживал экзаменационный билет, пытаясь уразуметь, о чём там, собственно, идёт речь. Момент был настолько напряжённый, что я до сих пор помню вопросы, которые мне предстояло, так сказать, осветить при сдаче. И всё это враки, что в Бауманке сложные вопросы в билетах. Здесь они были элементарны, и при желании я бы и сейчас смог вытащить из себя парочку уместных фраз про гофрированный цилиндр.
Первый вопрос про относительное движение. Это, когда поезда выходят навстречу друг другу, один из Бологого, а второй … да пусть из Твери, и нужно определить кто относительно кого, да с какой скоростью, и когда, наконец, произойдёт счастливая встреча двух одиноких сердец. Главное для машинистов, чтобы они не по одним и тем же рельсам катились. Ещё неплохо, когда они, наоборот, разъезжаются. И тут вдруг один из поездов проскакивает Бологое и поворачивает на Москву за своим нехитрым железнодорожным счастьем.
Это я настрочил быстро и вдохновенно. Второй вопрос был тоже про движение. Броуновское движение в газах. Это только кажется, что вокруг нас ничего нет. Оказывается, повсюду молекулы, которые двигаются хаотично и постоянно сталкиваются, грозя нарушить общественное равновесие и гомеостазис Вселенной. А, если их ещё, как следует, разогреть, то они так и норовят преодолеть земную гравитацию и раствориться в космических далях. Ответ на эти два больных вопроса мироздания занял у меня от силы минут двадцать. Венцом же билета была задача, рисунок которой и условия занимали отдельную страницу. Какие-то фантастические свинцовые шары разной массы и один железный подвешены, кто на чём. Кто на верёвке, кто на леске, кто … в общем, главное, не на соплях. А ещё какие-то катаются по желобам. То стукаются друг о друга, то притягиваются, а то вдруг отталкиваются и оттягиваются. В общем, всё как у людей. Требовалось вообразить их взаимное расположение спустя некоторое время непрерывного взаимодействия.
Я бы никогда не смог даже подступиться к такой задаче, если бы не одно «но». Какой-то ленивый преподаватель с кафедры физики тупо позаимствовал её из небезызвестного вам пособия Мясникова один в один. Даже условие не изменил. Понятно, что мне не составило особого труда после четырёх решений решить её в пятый раз. Скачал сейчас из Интернета пособие и попытался найти в нём эту задачу. Не нашёл. Видимо, всё-таки несколько переврал какие-то конкретные моменты, но смысл остался тем же в плане сложности.
Итак, спустя примерно час после начала экзамена, я поставил жирную точку и начал, слегка подпрыгивая от возбуждения, тянуть руку, чтобы меня вызвали и примерным образом допросили. Однако неслышно перемещающийся консультант попросил опустить руку и дождаться, пока меня вызовут. Таким образом, я провёл в аудитории ещё пару часов. Прыгал. Ёрзал. Пытался помочь соседу сзади. Сидел неподвижно как истукан. Однако всё когда-нибудь да и кончается. Услышав свою фамилию, вспорхнул в проход и уселся на жёсткий стул перед женщиной -преподавателем с безумно утомлённым лицом и усталыми глазами. Которыми сразу впилась в задачу и, спустя минуту, отложила её в сторону. Задала какой-то незначительный уточняющий вопрос про Броуновское движение и подвинула к себе экзаменационную ведомость.
– Ну, что же пять, молодой человек.
У меня даже в голове зазвенело от счастья и глубины самореализации. И я так с детским восторгом:
– А Вы знаете, я медалист!
Женщина на мгновение подняла на меня ничего не выражающее общее выражение лица и тихо произнесла:
– В коридоре рядом с дверью висит объявление, где завтра состоится собрание для вас. Всего хорошего!
Тут я полетел по лестницам Училища и никак не мог приземлиться. Через некоторое время полёта безнадёжно заблудился. Вошёл в альма-матер со стороны 2-й Бауманской улицы, а вышел, в конце концов, со стороны речки Яузы. И долго кружил по окрестностям, постоянно переспрашивая встречных прохожих о станции метро и шарахаясь от звонко трезвонящих трамваев. Ещё какая-то подвода медленно прокатилась по переулку, и я почувствовал себя практически Ломоносовым. Промелькнул Бауманский рынок, тогда ещё существующий и вполне жизнеспособный. И вот я в метро.
Мама в это время не находила себе места от волнения. Уже дело к вечеру, а этого недоучившегося олуха всё нет. На щёках и лбу на нервах вздулись разноцветные шишки, но мама их не замечала. Трель входного звонка. В дверях, упершись одной рукой в притолоку, другой, лихо подбоченясь, стоит сыночка и, как всегда, неумно острит:
– Ну, мать, заказывай панихиду!
Мама хватается за сердце.
– Поступил!
Мама заливается слезами.
– Ну вот! Не поступишь – плачут, поступишь – плачут. Не поймёшь вас!
И, страшно довольный собой, сыночек обнимает маму и устремляется на кухню.
Почти студент
Шумел вокзал, как праздничный базар
Подали поезд на второй перрон
Какой-то непонятный был азарт
Когда входили сразу все в вагон
И подали состав и чай подали
И поезд побежал в далекий край
И ровно так колеса застучали
Не забывай, не забывай, не забывай!
Не забывай, как в салочки игра
Она – ему и он обратно ей
Как будто все ребята со двора
Сбежались проводить своих друзей
Владимир Харитонов, песня Яака Йоалы
Не зря мне папа с мамой виниловый проигрыватель купили. Это правда. В школьном детстве, когда я вовсю заслушивался запилами зарубежных рок-гитаристов на магнитофоне в компании брата и его приятелей, я заявил им с вызовом:
– Вот вырасту, и будут у меня пластинки. И я их стану слушать, а не эти ваши магнитофоны.
На что все дружно рассмеялись и начали меня подначивать, да знаю ли я, сколько одна пластинка стоит, да в курсе ли, где их берут. С общим итоговым выводом: это просто невозможно, потому что такого не бывает в принципе. В общем, это резонно. В Советском Союзе было прекрасно поставлено дело с записями классической музыки, частично, джаза и Аллы Пугачёвой. В качестве заменителя рок – музыки населению предлагались Вокально – Инструментальные ансамбли. Как правило, эти коллективы вываливались на сцену табуном, в котором обязательно на фоне поющих парней выделялись поющие девушки, а также с полдюжины исполнителей духовой секции. Среди доступных лицензий в стране преобладали итальянцы, а также популярные в стране поп- и диско- группы, вроде АББА. Особый интерес представляли так называемые «демократы», то есть исполнители из стран социалистического блока Восточной Европы и лицензии, которые издавались там же. Это было гораздо увлекательнее. Впрочем, брожение умов началось уже давно, и молодёжь заслушивалась магнитоальбомами, то есть, переписанными на магнитофон аналогами настоящих виниловых альбомов советских групп. Искренне считаю, что рока, как такового, там тоже не водилось, даже среди горячо обожаемых мной «Карнавала», «Динамика», «Круиза», «Диалога» и «Воскресенья». А «Машину Времени» я и тогда почему-то не любил. В отличие, скажем, от «Аквариума».
Сейчас в каждом городе есть, по крайней мере, один магазин, торгующий виниловыми пластинками. Кроме Нового Уренгоя, хотя допускаю, что я чего-то не знаю. В Тюмени этим занимается мой приятель Сергей на Холодильной улице в магазине «Меломан». В Тамбове тоже имеется полуподвал на пересечении Октябрьской и Базарной. В Москве в студенческую пору лично у меня было четыре излюбленных точки. Фирменные магазины «Мелодия» на Калининском и Ленинском проспектах, ГУМ на Красной площади, куда можно было в то время ходить не на экскурсию, а за покупками и платформа Тарасовская, на которой в годы перестройки поставили ярмарочный павильон, с торговлей лицензиями и фирмОй по выходным дням. Приезжал туда за час до открытия, и всё равно выстаивал в очередях.
На следующий же день после своего оглушительного экзаменационного успеха я отправился на Калининский проспект с целью непременного ознакомления и возможного приобретения какого-нибудь невозможного и дефицитного винила. Для тех, кто не в теме: Калининский проспект – это сейчас Новый Арбат, а, вместо «Мелодии», помещение занимают какие-то совершенно не музыкальные кофейни. Если, разумеется, их не прихлопнула вездесущая пандемия. Откуда у меня деньги взялись? Мама дала. Сейчас почему-то стыдно об этом вспоминать.
И, что вы думаете? В магазине я обнаружил новейший, с пылу с жару, альбом группы «Пудис» из Германской Демократической Республики. Хотел было написать по-простому ГДР, но вдруг осознал, что многие не смогут толком расшифровать. Альбом под названием «Карьера компьютера», зелёненький такой. Тогда это было модно. То «Крафтверк» запишет «Мир компьютеров», то Лариса Долина споёт про любовь персональной электронно-вычислительной машины к практикантке Кате. Конечно, я немедленно приобрёл новый альбом и поехал с ним в МВТУ на послеэкзаменационное собеседование. Не скажу, что нас было много, счастливых отличников. Что наполнило меня самомнением по самую макушку. И даже превысило где-то, судя по шевелюре торчком. Получив ценные рекомендации по устройству в общагу и по графику торжественных мероприятий для новообразованных студентов, покатил домой, пока что на 16-ю Парковую. Хотя, между прочим, мог бы спокойно устроиться в общагу и привыкать понемногу к студенческому быту без поездок туда-сюда.
Значительно позже, экономя на питании, купил у фарцовщиков альбом Алана Парсонса «Глаз в небе» за 55 рублей, а у дипломника в общаге, распродающего свои винилы, «Burn» незабвенной «Deep Purple» за 60 рублей. А сколько мог бы съесть еды! Хорошо, что родители об этом ничего не знали.
Рано утром на Павелецкий вокзал из Тамбова должен прибыть состав, с которым в столицу приезжает мой братан Андрюха для транзита в ряды Советской Армии. Поезд прибывал настолько рано, что на метро мы никак не успели бы его встретить, поэтому наутро поехали на такси. И я ещё захватил с собой пластинку похвастаться. Всё – таки я был какой-то прикольный дурачок. Будущий служивый народ выпал из поезда в разобранном и частично невменяемом состоянии. Ребята бухали всю ночь напролёт, и теперь, выкатив красные белки глаз, устремились к зданию вокзала в поисках безалкогольных жидкостей и пищевых добавок к ним. Пока мама обнималась со старшим сыном, попытался порассказать, что я теперь студент, и вот гля – кось, какая у меня пластинка теперь есть. Андрюха реагировал на маму очень уверенно, а на меня весьма умеренно. Выяснилось, что его направляют в Западную Группу Войск. То есть в Европу. Кто-то из парней занял на вокзале очередь за Фантой. Стакан стоил 20 копеек, между прочим. Для очереди стало большим сюрпризом, когда к освежающей точке неожиданно подвалил вагон духовитых и распаренных мужиков. У которых совсем скоро начиналась новая жизнь. А мне предстояло вернуться в Тамбов, сложить там пожитки и отправиться в Москву уже окончательным студентом и в гордом одиночестве. Набившая оскомину, пока я здесь про неё писал, пластинка пока осталась на малой Родине.
Кому-то может показаться, что это мелочь, которой не стоило уделять столько внимания. Что сказать на это? Раз она так засела в голове, значит информация для чего-то необходима обитаемой части нашей Галактики.
Для поездки меня снабдили большим чёрным чемоданом. С ручкой. Он мне служил верой и правдой несколько десятков лет. И до сих пор устало дремлет на полке в родительской квартире. Удивительно, что для переездов почему-то не было сумок на колёсиках и других достижений цивилизации. Так полжизни я и прошатался с чемоданом. Зато в качестве позитивной компенсации получил в награду длинные красивые волосатые руки.
Общага №8 МВТУ располагалась между 6-й и 7-й Парковыми улицами прямо, можно сказать, на опушке Измайловского парка, которая называется Измайловским проспектом и в своё время была практически пешеходной. Не знаю, как сейчас. Линия метрополитена проходила открытым способом примерно в 100 метрах от входа в корпус, а за ней начинались заросли. Собственно, и станция Измайловская является открытой платформой, и занятно было наблюдать, как вынырнувший из тоннеля состав с той или другой стороны подбирается к перрону. За столько лет нисколько не приелось. С одной стороны станции темнела аллея парка, с другой —несли вахту сиреневые кусты вдоль её забора. От Павелецкого вокзала до Измайловской можно было попасть двумя способами. Первым пользовались всякие понаехавшие и лохи, которые со своими баулами не в состоянии отличить бордюр от поребрика. Вроде меня. По подземному пешеходному переходу, который когда-то украшал привокзальную площадь, нужно было протащиться метров пятьсот, а вдобавок ещё и на поверхность вылезти. С тем самым чёрным чемоданом. Затем спуститься на станцию Павелецкая Кольцевой линии и там добраться до станции Курская, что у Курского вокзала. Ещё один утомительный переход, и ты, наконец, на Арбатско – Покровской линии, она ещё тёмно-синим на схемах метрополитена обозначалась. Ну, а там каких-то 15 минут, и вот ты уже на выходе Измайловской в районе 3-й Парковой улицы. Оттуда пешком и быстрым шагом до общаги всего-то 11 минут. Засекал!
Но был (и есть) способ для продвинутых, можно сказать, коренных москвичей, которые прожили в столице уже больше месяца и чувствуют себя в метро как снулая рыба в мутной воде. Ловите лайфхак. Спускаешься прямо на вокзале на Павелецкую радиальную, и по зелёненькой линии поднимаешься до станции Площадь Свердлова. Сейчас то она Театральная в честь Большого театра, что ли. Если события будут развиваться как сейчас, думаю, что скоро её переименуют обратно. Тут нужно пересесть на станцию Площадь Революции. Причём сам пеший переход лучше игнорировать, а использовать эскалаторы на подъем, а затем спуск. Ну, а дальше всё, как в первом способе. Абсолютно без какого-либо напряга конечностей.
На платформе метро обнаруживаю своего одноклассника Лёху Рыжова, тоже с какими то авоськами и свёртками. Обрадовался ему так, поскольку после школы ни разу не видел. Лёха на уроках чистил монеты и заливал цветной эпоксидной смолой всякие узоры в деревяшках, которые сам же и вырезал долотом и стамеской. В общем, практически готовый инженер – рукоблудник.
– Лёха! Привет! Какими судьбами? Ты чего тут? Поступил, что ли, куда?
– Привет, Серёга! Ну, да, в Бауманское.
– Во как! И я в Бауманское! А на какую кафедру?
– Приборы! – Тут Лёха как-то даже ухмыльнулся.
– Смотри – ка, и я на Приборы! А специальность какая?
– П-5, АСУ.
– Лёха, скажи ещё, что группа первая.
– А как же!
Так мы оказались в одной группе П5-11 независимо друг от друга, ни разу не встретившись ни на консультациях, ни на экзаменах, ни вообще на поступлении. Вот что животворящая золотая медаль делает!
Даже в общаге наши комнаты были по соседству – у него 38, а у меня 39 на 6 этаже.
До торжественного вручения студенческих билетов, я умудрился встрять в эпичную историю разгрузки провианта для столовой Училища. Нам в деканате сухо и хмуро объявили:
– Ребята, нужно помочь!
Причём, не в главном корпусе, а напротив него, в Бригадирском переулке. Не просто мешки, а туши сырого мяса: свинина и говядина. Перетащить в подвал. Нам и в голову не пришло спорить или увиливать от работы. Правда, нас обеспечили какими-то драными халатами, дабы сохранить первозданную свежесть нарядных выходных штанов, надетых по причине визита в институт. Только вот перчаток или рукавиц почему-то не дали. Или что ли дали, но мне в них было крайне неудобно перетаскивать окровавленные и скользкие куски с торчащими рёбрами. Что справедливо, чай не неженки какие, а почти студенты. Примерно за час управились. В заключение нам позволили немного привести себя в порядок, помыть расцарапанные костями руки, умыться и … хотел было вспомнить, что покормили, но нет, не стали. Отпустили с Богом. К сожалению, у истории этой было продолжение. Через некоторое, крайне непродолжительное время, ладони, пальцы и запястья покрылись гнойными нарывами, которые не зудели, а прямо ревели мне в лицо при ближайшем рассмотрении: Займись уже нами! Самый хитрый нарыв умудрился обосноваться под ногтем большого пальца. Чтобы туда попасть, нужно было очень постараться, но он смог. Ковырял я их булавкой, ковырял. Мазал йодом, мазал. Плевал на них и в отчаяньи практиковал наружную уринотерапию. Жевал подорожник. Всё без толку. Спустя две недели я отправился то ли в травмпункт, то ли в пулуклиник, как выражался мой дед по маме Иван Корнеич Хабаров, на улице Первомайской.
В этом почтенном учреждении хирург долго смаковал мои болячки визуально. Но я не обращал на него внимания, поглощённый зрелищем великолепной рвущейся наружу из белоснежного халатика груди медицинской сестрички. И, пока девственник в моём лице будто случайно бросал взгляды на женские прелести, врач тихо и осторожно достал какие-то зверского вида кусачки и давай кромсать ноготь вместе с пальцем, искореняя нарыв, так сказать, в зародыше. Первые секунды мне даже больно не было. От шока, видимо. Тут и сестричка подскочила бинтовать то, что осталось. Так-то, товарищи! Лучшее обезболивающее и одновременно антисептик – женская красота!
Подумалось, что всё-таки у меня с головой не совсем в порядке. То ли задумываюсь частенько, то ли вообще ни о чём не задумываюсь, находясь в мыслительной летаргии. Вот взять эти несчастные нарывы. Или ещё был случай уже в довольно зрелом детстве. Шёл пешком на дачу, и тут меня обгоняет грузовик, ползущий по ямам и щебёнке немногим быстрее меня. И что я делаю, друзья? Подскакиваю к его заднему борту и повисаю на нём, чтобы, так сказать, с комфортом и всеми удобствами прокатиться по жаре. Неожиданно для меня и только для меня нас встречает очередная яма. По инерции меня разматывает и плющит о борт. Весь ободранный, падаю на пыль и камни, глотая пыльный воздух. Хорошо, что дело закончилось ссадинами и испугом. С тех пор отношусь к себе с большим недоверием.
Посвящение в студенты проходило у главного входа Училища со стороны Яузы, через который меня вынесло в эйфории после экзамена. Хорошо, что погода сияла теплом и солнцем, речка сонно качала уток на своей ядовитой воде, настроение было приподнятым. На собрании мы познакомились с однокурсниками, то есть я с ними, а они со мной. По-моему, нам был представлен Володя Лепёхин как староста группы. Хотя, кто там кого мог представлять, вряд ли. Скорее он сам себя представил. В итоге все отправились на стадион МВТУ, который красовался на другой стороне реки. По дороге я крайне хотел понравиться своим новым друзьям, безостановочно острил и рассказывал, как я считал, жизненные интересные истории. Когда мы уселись на трибуне, Андрюха Малыгин сказал проникновенно:
– Знаешь, я с тобой знаком всего пять минут, а ты мне уже надоел.
А Шура Крылов одобрительно заржал.
Становлюсь на крыло
По какой причине Разные на вкус
Кто-то словно дыня А другой – арбуз
Этот пахнет водкой Эта – молоком
И кефиром чётко Скиснет – но потом
В пост разит котлетой С жареным яйцом
А настанет лето – Свежим огурцом
Хочется конфеток Тающих во рте
Тётенек-нимфеток Склонных к красоте
Полижите пальцы У себя тайком
Вкусно словно сальце С острым чесноком
Как звучит уныло: Мойте руки с мылом
Стих мой, если что
Есть у заголовка небольшая история, связанная, правда, с новейшим временем, когда один из знакомых перебрался в Москву – жить и работать. На традиционные вопросы – Как дела? Чем помочь? – последовал вполне литературный ответ: Ничего не нужно, я становлюсь на крыло!
Понимать это нужно так, что ты начинаешь отличать вход от выхода, познакомился с окружающими тебя добрыми людьми, определил свои цели и потихоньку двинулся к ним. Обогащаясь новыми опытами человеческих отношений и производственной эквилибристики. И всё это, как понимаете, именно в Москве.
Примерно так и у меня, начиная с сентября 1983 года.
Дальнейшая история жизни разобьётся на фрагменты, которые никак не хотят складываться в картинку последовательных событий. Значит, так тому и быть. Изменился ритм жизни, ушло в прошлое привычное окружение, теперь всё зависит от Бога – и немного от нас, как поёт Николай Расторгуев.
Как домашнее чадо, никогда не ходил ни в какие рестораны и кафе. Припоминаю, был случай в раннем детстве, когда мы с папой попали под сильный дождь в центре Тамбова и завернули с ним, я имею в виду папу, а не дождь, конечно, в ресторан Центральный на Интернациональной улице. Там папа заказал цыплёнка Тапака, и, по детским понятиям, мы ждали целую вечность, пока нам не принесли его вместе с гарниром из риса. Сейчас на месте этого ресторана, к сожалению, «Эльдорадо» обосновалось.
Сразу через дорогу от станции метро «Бауманская» в цоколе старого дома находилась, как теперь сказали бы, кофейня. Кстати, она и сейчас там под названием «Пан Круассан». В этом общепите разливали так называемый «бочковой» кофе половником, а за столиками нужно было стоять, положив локти на поверхность условной чистоты. «Бочковой» – это такой растворимый кофе со сгущёнкой. И, кстати, мы частенько туда захаживали, зажёвывая ядрёный напиток булкой, если не было иной возможности перехватить еды в Училище или общаге.
Для более торжественных целей служило заведение «Три коня». Не помню, как оно называлось на самом деле, только над входом свисала металлическая конструкция с изображением морд лихой лошадиной тройки. Вроде бы это было кафе, но состоящее из двух частей. На первом этаже – столовая с раздачей, а на втором – кафе с половыми … пардон, официантами и бухлом. Не был на втором этаже ни разу. По-моему. Но после экзамена или стипендии мы заходили туда в праздничной обстановке поесть чебуреков в столовой. Каждый брал по три чебурека (17 копеек каждый) и по стакану фанты (то, что он стоил 20 копеек, я уже сообщал). Никаких тебе салатов, закусок и борщей. Начинался невиданный пир, после которого студенты, покачиваясь от сытости и икая от газировки, потихоньку брели к метро. Вот написал об этом, и захотелось чебуреков: сочных и хрустящих одновременно.