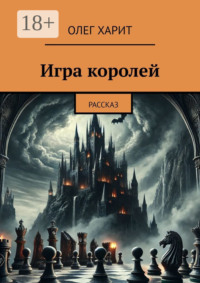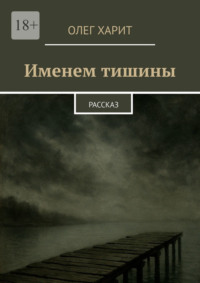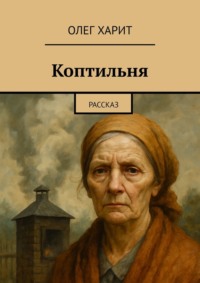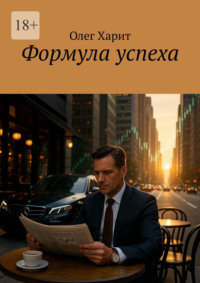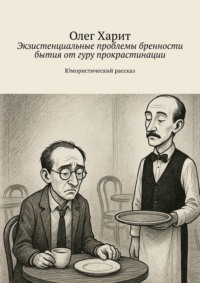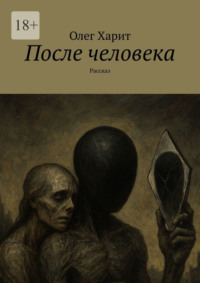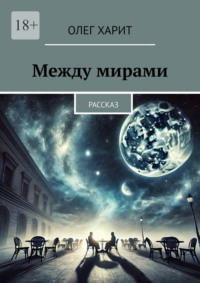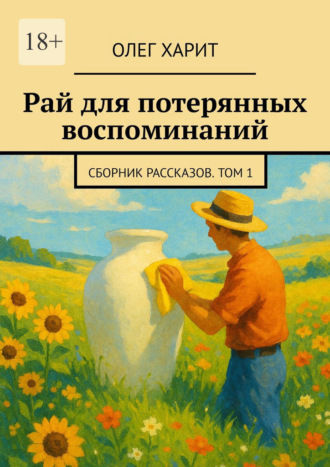
Полная версия
Рай для потерянных воспоминаний. Сборник рассказов. Том 1
– Чувствуй себя как дома, – сказал Феликс Адрианович, кивая на стул у небольшого стола. – Я велю девочке, моей служанке, принести тебе чаю. А позже, если захочешь, покажу свою библиотеку поближе.
Пока Артём, полузачарованный видом такого количества книг, пытался привыкнуть к полумраку, из коридора вышла худенькая девочка, лет, наверное, тринадцати-четырнадцати, в простенькой, но аккуратно заштопанной одежде. В руках она держала глиняный чайник и грубоватые кружки. Поставив всё это на низкий стол, она стыдливо улыбнулась Артёму и быстро скрылась за занавеской. Хозяин же продолжил:
– Знаешь, люди говорят много глупостей обо мне: дескать, я чародей или тайный прорицатель. А я всего лишь читаю старинные записи, пытаясь найти истины, которые помогают мне понять себя и других. Когда-то я стремился к славе, думал писать трактаты о душе и страданиях человечества. Да вышло иначе: понял, что мое истинное призвание – размышлять и делиться своими мыслями с теми, кто искренне готов их слушать. Но таких не слишком много: каждый занят собственными хлопотами.
Он подлил горячей воды в кружку и жестом предложил юноше отхлебнуть. Напиток имел терпкий травяной запах, мягко обволакивающий горло, и казался лучшим, что Артём когда-либо пробовал в дни своих странствий.
– Расскажи мне о том, как ты пришёл к мысли искать секрет счастья, – попросил Феликс Адрианович. – Откуда сам? Каковы первые твои шаги?
Артём, набравшись храбрости, поведал ему о родной деревушке, о тех снах и тихой тоске, которая подталкивала его покинуть привычный мир; о ночи в заброшенной часовне и монахе, давшем ему записную книжку; о добродушной Василисе, приютившей его, и о глупых подозрениях, вынудивших его уйти из города. Всё это он излил искренне, без утаивания, ибо чувствовал: собеседник относится к нему без презрения и насмешки, а напротив, слушает с живым интересом. Когда Артём закончил, хозяин на минуту закрыл глаза, словно пытаясь переварить услышанное.
– Прекрасно, – негромко молвил он наконец. – Прекрасно не потому, что ты пережил беды и горечи, а потому, что судьба твоя уже освещена множеством встреч, и каждая добавляет в твою картину мира новую краску. Не всякий может осознать, что путь, к счастью, иногда состоит из мелких искорок добра и суровых уроков. Однако ты не забыл главного: хранить в душе веру в то, что счастье есть, и оно доступно для того, кто умеет ощущать его дыхание.
С этими словами Феликс Адрианович встал, взял со стола одну из свечей и пригласил Артёма следовать за ним вглубь дома, где располагалась личная библиотека – уже не просто стеллажи с книгами, а целая комната со сводчатым потолком, в которой были расставлены читальные пюпитры, заваленные разнообразными фолиантами. И здесь, в мерцающем полусвете, юноша смог увидеть, что речь идёт о множестве трудов: древние хроники с непонятными надписями, философские сочинения, переписанные от руки и переведённые на русский язык, рукописи, покрытые выцветшей вязью и вставками латинских, а иногда и греческих слов. Пройдя вдоль полок, Феликс Адрианович тихо проговаривал названия, поясняя, что каждая книга – это чьё-то сердце и ум, раскрытые на страницах. «Вот трактат о добродетели и пути к ней, здесь – свитки, посвящённые истолкованию снов, а вот этот – о гармонии человека с природой…»
Артём едва мог скрыть изумление: никогда ещё он не видел столько книжной мудрости в одном месте. Он словно попал в обитель, где время застыло, предоставляя ему свободу изучать всё, что может приблизить к ответу на его сокровенный вопрос.
– Оставайся у меня, – предложил Феликс Адрианович. – В награду прошу лишь помогать мне в хозяйстве: что-то переписать, убирать комнату, носить воду и, возможно, раз в неделю сопровождать меня на прогулке за городом. Я человек уже не молодой, и мне трудно таскать тяжёлые свитки. А я, со своей стороны, посвящу тебя в некоторые мысли о природе счастья, которые почерпнул из этих книг и из собственного опыта.
Юноша, поражённый и счастливо взволнованный, с готовностью согласился. Так для него наступил особый период учения.
Каждое утро он помогал маленькой служанке убираться в комнатах, затем нёс в библиотеку воду, протирал пыль с полок. Феликс Адрианович, проснувшись, садился в глубоком кресле с тремя или четырьмя томами, и начинался своеобразный урок. Временами старик читал вслух отрывки из древних книг, объясняя, как те или иные мыслители трактовали понятие счастья. Некоторые утверждали, что счастье – это жизнь в добродетели, другие – что оно кроется в умении довольствоваться самым необходимым, третьи же говорили о высшей гармонии, доступной лишь избранным, кто умеет преодолеть свои страсти. Артём старался записывать за учителем, но иногда путался в сложных оборотах, а Феликс Адрианович только усмехался:
– Не торопись, мальчик. Сначала пропусти их слова сквозь сердце. Ведь сухие фразы – лишь скелет мысли; оживает она только тогда, когда резонирует с твоим внутренним миром.
Так шли дни, и молодое сердце Артёма раскрывало новые горизонты: постепенно он начинал понимать, насколько разнообразны пути человеческих исканий. Он упорно пытался свести всё к одному, надеясь: «А вдруг где-то есть самая суть, которая разрешит все сомнения?». Но чем больше он читал, тем отчётливее видел, что ответы могут различаться, порой даже противоречить друг другу. Однако он замечал и другое: любой достойный мыслитель, независимо от эпохи и происхождения, неизбежно упоминал о душевном равновесии, о любви к ближним и о вере (будь то вера в Бога или в высшие начала) как важнейших опорах для истинного счастья. «И тут, – думал он, – звучит то же самое, что когда-то говорил брат Лука, говоря о том, что нельзя отрывать счастье от любви и сострадания».
Утром, когда вся необходимая работа по дому была сделана – свечи зажжены, вода для чая грелась на жаровне, а Феликс Адрианович достал с полок несколько томиков, – он усаживал Артёма за длинный дубовый стол. Большое количество книг в комнате казалось мрачноватым и торжественным, но тусклый свет лампы придавал пространству уют, а сам хозяин дома создавал тёплую атмосферу своими неторопливыми расспросами.
Обычно Феликс Адрианович начинал беседы так: – Ну что ж, Артём, поведай мне о том, что читаешь и что из этого вынес.
Юноша порой нерешительно мял в руках уголок бумажного листка – он вёл записи и не всегда успевал упорядочить мысли: – Я, кажется, начинаю понимать, что счастье не может принадлежать только внешним обстоятельствам. Вот, например, в трактате, который вы мне дали – где автор рассуждал о «добродетели как основе довольства», – говорится, что, сколь бы человек ни обзаводился богатствами, без внутреннего света он всё равно останется несчастным. Но, в то же время, почему тогда столь многие стремятся прежде всего к золоту или к признанию?
– Интересный вопрос, – кивал Феликс Адрианович, подвинув к себе несколько листов. – Во все времена люди искали счастье во внешнем – в шелках, во власти, в накоплении ценностей. Часто, лишь исчерпав эти пути, они приходили к мысли, что корень счастья – в душе, а не в карманах. Но заметим, – и здесь он приподнимал бровь, глядя на Артёма, – мы не можем отрицать, что и телесное благополучие важно. Сперва накормить голодного, а потом вести с ним беседу о высоком. Как думаешь, противоречит ли это словам о «добродетели и довольстве»?
Артём задумывался, опустив глаза: – Наверное, нет. Ведь если человек беден до крайней степени, ему будет очень трудно концентрироваться на духовном. Но ведь и сытый может оставаться холодным и озлобленным…
Феликс Адрианович улыбался: – Вот мы и подходим к тому, что древние философы называли «золотой серединой»: когда внешнее и внутреннее должны дополнять друг друга. Значит, счастье – это не только отсутствие голода, это ещё и внутренний настрой. Продолжай.
Тогда Артём принимался рассказывать, что его по-прежнему мучит вопрос: почему некоторые люди, имея ровно то же самое (кров, кусок хлеба, какую-никакую работу), всё равно не чувствуют радости? Юноша припоминал знакомых, которых встретил в городе – там были ремесленники, не голодающие, но недовольные жизнью. Или богачи, сетовавшие на скуку и мнимые обиды. Феликс Адрианович тут же вставлял: – А кто-то, наоборот, живёт скромно, но лицом светится от спокойного счастья?
– Да, вот именно! – встрепенулся Артём. – Я видел такое у некоторых людей, которые не владеют ничем особенным, но ценят то малое, что имеют. Как же так получается?
Тут хозяин дома осторожно перелистывал страницы в одной из книг с тёмным кожаным переплётом: – Есть теория, что в основе счастья лежит благодарность к миру и осмысленная жизнь: ощущение, что ты не просто существуешь, а живёшь со смыслом. Если человек не находит смысла ни в своей работе, ни в семье, ни в поступках, то никакая пища или шелка не утолят его пустоту. Возможно, ты уже замечал, что те, у кого есть цель выше личной выгоды, выглядят уверенней и спокойней?
И Артём спешил подтвердить, вспоминая какую-нибудь деревенскую семью, что радовалась простым мелочам, или брата Луку, который среди полуразрушенных стен скита сохранял душевный свет: – Да, когда человек в чём-то видит свою миссию, свои ценности, от него словно исходит внутреннее сияние.
– Верно, – подхватывал Феликс Адрианович. – Значит, коль ты ищешь секрет счастья, нужно смотреть не на внешние декорации, а на то, что движет человеком изнутри.
Подобные диалоги продолжались иногда по нескольку часов. Нередко беседа уводила их к вполне земным и конкретным темам. Феликс Адрианович расспрашивал Артёма о жизни крестьян, о том, почему одни люди находят радость в труде, а другие грызутся и пьют с горя. – Как думаешь, Артём, одинаковы ли у них обстоятельства? Или дело в том, что каждый выбирает собственную позицию к тому, что с ним случается?
– Возможно, обстоятельства похожи, – размышлял Артём вслух. – Но один, к примеру, ощущает поддержку родных и ощущает благодарность к судьбе, другой же никому не доверяет, озлобляется. И от этого он всё глубже уходит в несчастье.
– Получается, счастье зависит не столько от условий, сколько от восприятия, – заключал наставник. – Хорошо. Тогда встаёт вопрос: можно ли научиться такому «правильному восприятию» или это врождённый дар?
Это был излюбленный вопрос Феликса Адриановича. Он кивал на фолианты, указывая, что одни философы считали способность, к счастью, врождённым «даром», другие – результатом воспитания и обучения. Артём, опираясь на свой опыт, думал: – Мне кажется, этому действительно можно научиться. Взять хотя бы меня самого: раньше я считал, будто важно лишь отыскать один ответ – и вся жизнь станет радостью. Но теперь, просидев у вас в библиотеке, я вижу, как много граней у каждого вопроса. И если внутренне меняться, то начинаешь замечать больше поводов для благодарности и любви к миру.
– А как же внешние беды? – задавал другой наводящий вопрос Феликс Адрианович. – Ведь несчастья и горе никто не отменял. Разве можно оставаться счастливым, когда вокруг страх, несправедливость, бедность?
И вот тогда загорался настоящий спор: Артём не мог отрицать, что видел страдания людей. Он вспоминал нищих, которые согревались только возле городских костров, рассказывал, с какими болезнями ему приходилось сталкиваться у простых крестьян, какова была их боль и отчаяние. И всё же, подбирая слова, он говорил: – Но я замечал, что и среди таких людей встречаются те, кто умеет бороться или хотя бы не терять веры. Они помогают друг другу, делятся последним куском хлеба. Значит, и в обстоятельствах ужаса всё-таки сохраняется возможность – пусть искрой – ощутить счастье, потому что оно идёт от доброго сердца.
– Так, – кивал наставник, поглаживая края переплёта, – значит, мы должны признать: счастье не равно отсутствию бед, это какое-то живое движение души, способность не падать духом и заботиться о других.
В иной вечер, когда на столе стояли свечи и одна из них начинала тихо коптить, размягчённый восковой аромат придавал беседе почти мистический оттенок. Тогда Феликс Адрианович читал Артёму отрывки из старинных рукописей – к примеру, древние притчи о царевичах и отшельниках. В одной говорилось, что царевич обошёл полмира, ища блаженства в богатстве и удовольствиях, но так и не обрёл покоя, пока не встретил простого пастуха, умевшего радоваться восходу солнца и тёплой овечьей шерсти.
– Что эта притча может значить? – задавал вопрос наставник.
– Наверное, – отвечал Артём, размышляя, – что счастье не в накоплении и не в самих удовольствиях. Иногда простота открывает гораздо больше. Пастуху достаточно природы, звёзд и скромного очага, но он умеет всей душой принимать это как дар.
– Да, а царь или царевич порой «засоряют» свои ощущения избытком вещей. Хорошо! Тогда представь, что кто-то возразит тебе: «Но я не желаю жить, как пастух, мне хочется большего. Я люблю роскошь и не хочу считать это пороком». Что ответишь?
И тут Артём задумывался всерьёз, ведь он знал, что не в праве судить других за их желание комфорта или красивой жизни. Может, и в богатстве есть своя прелесть, если человек умеет ценить полученное благо: – Думаю, и в роскоши можно быть счастливым, если сохраняешь уважение к людям, не становишься рабом своих желаний, остаёшься благородным и добрым. Другое дело, что роскошь часто поглощает разум и заставляет забыть про сострадание.
– Прекрасно, – соглашался Феликс Адрианович. – Следовательно, дело не в самой роскоши, а в том, как человек к ней относится.
Такие многослойные рассуждения порой вызывали лёгкую головную боль у юноши. Однако Феликс Адрианович лишь добродушно посмеивался, предлагая сделать перерыв, выйти прогуляться по двору или выпить чаю. Затем, возвращаясь к столу, продолжал проверять, что Артём усвоил: – Ну а теперь скажи, какие вопросы у тебя остались нерешёнными?
И Артём признавался: – Мне всё ещё непонятно, почему нельзя дать людям один чёткий рецепт, чтобы каждый, выполнив его, обрёл счастье. Ведь всё же ищут единую формулу.
На это учёный старик брал перо и на листке выводил ряд символов, будто записывая числа: – Представь, что у нас есть пять человек, каждый со своими исходными данными: разное детство, разная душа, разный характер. И вот ты им даёшь один рецепт. К примеру: «Вставайте с первым петухом, молитесь, потом ешьте не более одной миски каши и трудитесь до заката». Думаешь, всем это принесёт радость? Кому-то да, а кому-то нет – кто-то, может, нуждается в более сложных духовных поисках, кто-то – в уединении, а кто-то – наоборот, в круге друзей. Так что единый универсальный закон не работает. Но это и чудесно, что жизнь разнообразна.
После таких разговоров Артём, сохранив тетрадку записей, часто брался ещё и за домашние хлопоты. Он выносил ведра с водой, поливал сад, любил слушать треск поленьев в печи, обдумывая все новые и новые доводы, услышанные за столом. А вечером они снова сидели со свечами, и уже юноша делился выводами за день: как в очередном трактате философ утверждал, что «счастье – это совершенная внутренняя свобода», и как он сам пытается применить это в реальной жизни: – Но ведь свобода – понятие широкое. Свобода от чего? От страстей? От страхов?
Тогда Феликс Адрианович ласково усмехался: – От всего понемногу. И от зависти, и от рабства перед чужими взглядами, и от страха перед будущим. Счастье – это свобода быть самим собой в добре, не опасаясь осуждения. Но для этого надо немало мужества.
И Артём понимал, что эта фраза попадает прямо в цель его исканий. Он вспоминал, как когда-то боялся презрения горожан, как чувствовал себя чужим и униженным. Теперь же, поняв, что счастье зависит не от чьего-то одобрения, он ощущал внутренний простор.
Так, день за днём, их беседы, сотканные из вопросов и ответов, из чтения вслух древних текстов и обсуждения реальных историй, формировали в душе Артёма всё более крепкую уверенность: постижение секретов счастья не заканчивается какой-то одной строчкой из книги. Напротив, каждая беседа с Феликс Адриановичем показывала, как широко поле для размышлений, как нуждается человек в практике – добрых поступках, помощи другим, труде, – чтобы эти истины приобрели живую плоть.
Часто в конце разговора хозяин дома подводил итог: – Артём, помни: любые слова – это лишь указатели. Настоящая мудрость живёт в сердце и в делах. Всегда сочетай размышления с доброй деятельностью – тогда они не превратятся в пустое умствование.
Эти напутствия Артём потом уносил с собой, уходя спать на чердачок или перелистывая на сон грядущий подаренную монахом книгу. Именно из таких ночных разговоров и родился его будущий взгляд, на счастье, как постоянное движение души, а не как статичный свиток с секретной формулой.
Помимо чтения книг, Феликс Адрианович любил подолгу беседовать за длинным столом, где горели свечи, и слушать рассуждения самого Артёма: что он понял? Какие вопросы у него остались?
После того, как Артём и Феликс Адрианович обсудили основы понимания счастья – богатство, бедность, внутренний настрой и умение радоваться малому, они постепенно переходили к другим, не менее насущным вопросам жизни. Их беседы становились глубже и затрагивали самые разные стороны человеческого существования. Вот лишь некоторые темы, над которыми они размышляли долгими вечерами, сидя при свете свечей за большим дубовым столом:
Феликс Адрианович:
Скажи, Артём, как ты понимаешь любовь? Разве она не является одной из главных опор, без которой человек не может быть по-настоящему счастлив?
Артём:
Думаю, да. Я видел, как люди, у которых нет настоящего тепла в семье или добрых друзей, часто ощущают пустоту. Но порой и те, кто имеет семью, страдают от недопонимания и ссор. Значит, одной любви «по названию» недостаточно?
Феликс Адрианович (качая головой):
Вот именно. Дружба, семья, супружеское единение – это не автоматическая гарантия счастья. Истинная любовь требует уважения, заботы, готовности слушать и прощать. Иначе она легко становится источником разочарований. Быть может, дело в том, чтобы «любить», не превращая другого в собственность?
Артём соглашался, вспоминая истории, услышанные в деревне и городе: когда люди ругались, ревновали, обижались, хотя, казалось бы, были близкими по крови или обручены. Постепенно он формулировал для себя мысль, что любовь – это не только чувство, но и поступки, настойчивое желание понять ближнего и дать ему свободу.
Однажды, закончив обсуждать древние трактаты, Феликс Адрианович задал Артёму почти риторический вопрос:
Феликс Адрианович:
Если человек волен делать, что захочет, – будет ли он автоматически счастлив? Вспомни, как многие мечтают о безграничной свободе, а, добившись её, вдруг не знают, куда себя девать.
Артём задумался и привёл пример из своих странствий:
В городе я повстречал юношу, который сбежал из семьи, полагая, что вдали обретёт полную волю. Но потом он жаловался, что не может найти работу и живёт впроголодь. Свободу-то он обрёл, а вот ответственность ему оказалась не по силам.
Феликс Адрианович (поджимая губы в задумчивой улыбке):
Получается, сама по себе свобода без внутреннего стержня, без умения брать на себя последствия – может привести к беспорядку и даже несчастью. Нужна ответственность. Но тогда встаёт вопрос: как найти границу между тем, что я действительно могу выбирать, и тем, в чём следует полагаться на волю судьбы?
Они долго обсуждали, что мир полон непредсказуемых событий – болезни, стихийные бедствия, людская злоба. Человек свободен только в части своих решений, но и в этой «части» кроется сила: то, как он ведёт себя в трудных обстоятельствах. И порой настоящая свобода – это способность выбирать добро, даже если обстоятельства плохо к тебе расположены.
Как-то раз Артём вспомнил, сколь болезненно ему было переносить предательство или резкие слова тех, к кому он относился по-доброму:
Артём:
Нередко я видел, как люди, уязвлённые обидой, будто закрываются в скорлупу. Или мстят в ответ. Я и сам чувствовал во время странствий, что злюсь на тех, кто несправедливо ко мне относился. Но, освоив уроки доброты, начал понимать, что держать обиду – значит носить внутри себя яд. Как с этим жить?
Феликс Адрианович (вздыхая):
Да, обиды – тяжкое бремя. Порой проще обидеться и уйти, чем найти в себе силы простить. Но замечал ли ты, что прощение не делает нас слабыми, а наоборот, даёт глубокое облегчение и даже душевную свободу?
Тогда они вместе анализировали случаи, когда само слово «прости» меняло атмосферу в семье или спасало дружбу. Говорили о том, как сложно иногда попросить прощения, признавая себя неправым, но как это важно для мира в душе. Феликс Адрианович приводил цитаты из религиозных и философских текстов, где высшая мудрость связывалась с милосердием к чужим ошибкам и слабостям.
Иногда их разговоры заходили и в область веры. Феликс Адрианович, хоть и не был священником, почитал священные книги разных традиций. Он делился с Артёмом мыслями:
Феликс Адрианович:
Я не навязываю тебе никакого культа, но замечаю, что в большинстве духовных учений счастье тесно переплетено с пониманием своего места в мироздании, будь то воля Божия или гармония с природой. Как думаешь, для счастья нужна ли человеку вера?
Артём:
Трудно сказать однозначно. Я встречал тех, кто молится искренне и черпает силу в вере, а встречал и тех, кто живёт добродетельно без особого религиозного рвения, но сохраняет связь с природой и чувствует себя счастливым. Может, важнее не официальная религия, а способность ощущать, что мир гораздо глубже, чем мы видим. Возможно, вера – это ощущение смысла, что мы не зря живём.
Феликс Адрианович кивал, отмечая, что сам он убеждён: каждая искренняя вера прививает человеку смирение перед высшим порядком, учит добру и любви. Но при этом никакую доктрину нельзя делать абсолютной: «Разные люди приходят к Богу или к природе разными путями».
Нередко в беседах всплывал вопрос о том, как человеку справляться с внутренними страхами – перед будущим, перед бедой, перед одиночеством.
Феликс Адрианович:
Откуда берётся этот страх и отчего одни люди ломаются под его тяжестью, а другие находят способ жить дальше?
Артём:
Думаю, страх порождается неизвестностью. Мы не знаем, что ждёт завтра, и пугаемся. Но если есть доверие к жизни или к собственным силам, есть внутренний опорный пункт: «Я справлюсь с испытаниями или, по крайней мере, не потеряю себя», – то страх не парализует.
В подтверждение Артём рассказывал, как бродил по ночным дорогам, не зная, найдёт ли приют, но в душе была искра уверенности, что мир всё же не враждебен. И, в самом деле, всегда находился дом или человек, готовый помочь. Феликс Адрианович подчёркивал, что подобные истории учат нас принимать жизненную непредсказуемость как вызов, а не как приговор: «Кто идёт, рискует упасть, но стоять на месте – это тоже не жизнь».
Ещё одной темой, всплывшей в разговорах, стала роль творчества: кто-то пишет стихи, кто-то рисует, кто-то играет на простеньких инструментах или лепит что-то из глины.
Артём:
Я никогда не думал о себе как о художнике или музыканте, но видел, как люди, поглощённые созиданием, становятся радостнее и свободнее. Будто бы творчество высвобождает в них особую энергию.
Феликс Адрианович с воодушевлением открывал книгу миниатюр или показывал тетрадь, где когда-то делал зарисовки:
Творчество – один из путей к пониманию красоты мира. Даже если человек не станет великим живописцем, само выражение чувств в рисунке или музыке питает его душу. Может, творчество – это своеобразная молитва, форма благодарности?
Они говорили о том, как в маленьких деревнях некоторые мастера вырезают из дерева затейливые фигурки, украшают посуду резьбой – и от этого в быту появляются искорки красоты, делающие жизнь теплее. Так Артём лучше осознавал, что удовольствие от творчества не обязательно связано с признанием или славой – это внутреннее раскрытие себя.
Иногда беседа принимала серьёзный оборот. Порой в город приходили вести о смертях от болезней или о войнах в отдалённых краях. Артём, прочитав соответствующие фрагменты в философских трактатах, спрашивал:
Артём:
Как найти счастье, если жизнь так хрупка, если мы все смертны и не знаем, когда придёт последний час?
Феликс Адрианович (тихо):
Смерть, мальчик, – это неотъемлемая часть нашего пути. Великие умы разных веков указывали, что осознание смертности побуждает нас сильнее ценить каждый день и поступок. Хотя, увы, кое-кто, наоборот, впадает в отчаяние.
Он делился мыслями об античных философах, которые призывали «помнить о смерти», чтобы жить осмысленно и достойно, не откладывая добрые дела и не забивая голову пустяками. Иногда они вспоминали о родных, о тех, кто уже ушёл. Феликс Адрианович говорил, что печаль неизбежна, но и в печали есть место светлой памяти: «Любовь, которую мы дарили, не умирает вместе с человеком; она как будто продолжает жить в мире».