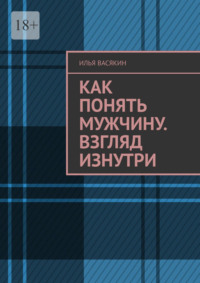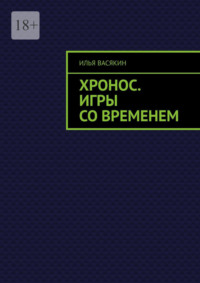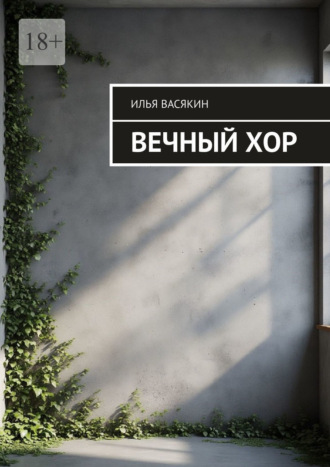
Полная версия
Вечный хор
Дрожь мужчины усиливалась. Казалось, вот-вот его начнёт трясти всего. Он медленно, с нечеловеческим усилием, склонился, чтобы поднять нож. Его пальцы сомкнулись вокруг рукоятки, и Маркус увидел, как они трясутся. Он положил нож на стол, и звук, который тот издал, был едва слышным стуком. Но в тишине он прозвучал как заключительный аккорд.
Только тогда остальные двое «Тихих» отвели от него взгляд. Их тела вновь обрели привычную, расслабленную плавность. Они вернулись к своим чашкам, к своим пирожным, к своему беззвучному общению. Инцидент был исчерпан. Нарушитель был идентифицирован. Система зафиксировала ошибку.
Маркус больше не мог здесь находиться. Он допил свой остывший капучино, встал и вышел на улицу, в солнечный, яркий, безупречный ад тишины. Он понимал теперь. Это было не просто наказание. Это был постоянный, неумолимый процесс. И все остальные жители были не просто свидетелями. Они были соучастниками. Они смотрели и ждали, когда следующая шестерёнка в механизме начнёт проскальзывать. И в их взглядах читалось не злорадство, а тихое, спокойное ожидание своей очереди. Или облегчение, что на этот раз пронесло.
Вечер вполз в дом Маркуса раньше заката, принесённый не сгущающимися сумерками, а нарастающим, гнетущим чувством безысходности. Он сидел в гостиной, отгороженный от идеального мира за окном, и пытался читать. Старый роман в потрёпанном переплёте, одна из тех книг, что он перевозил с собой как талисманы из прошлой жизни. Но слова не складывались в картины. Они были просто чёрными закорючками на бумаге, лишёнными смысла и эмоционального резонанса.
Он отложил книгу и закрыл глаза, пытаясь найти опору внутри себя. Свой внутренний монолог. Тот самый, что всегда был его спасательным кругом – ироничным, саркастичным, иногда самокритичным, но всегда громким и ясным. Голосом его здравомыслия.
«Ладно, Лейн, давай по порядку, – начал он, стараясь, чтобы мысленный тон звучал твёрдо. – Ты в городе, где любят тишину. Слишком любят. Есть люди, которые эту тишину… воплощают. Они не опасны. Они просто… пугающие. Но ты же не трус. Ты просто должен соблюдать правила, пока…»
Он запнулся. Пока что? Пока не найдёт способ уехать? Пока не сойдёт с ума?
«Пока не привыкнешь, – закончил он мысль, и от этой формулировки стало муторно. – Просто веди себя тихо. Ничего сложного. Миллионы людей мечтают о такой жизни. Тишина и покой».
Но что-то было не так. Он вслушивался в свой внутренний голос, и ему почудилось, что он звучит… приглушённо. Словно кто-то завернул его сознание в толстое ватное одеяло. Он пытался мысленно крикнуть, чтобы проверить себя.
«ЭЙ! КТО-НИБУДЬ!» – прокричал он внутри своей головы.
Но это не был крик. Это был громкий шёпот. Звук, который рождался где-то в глубине, но, долетая до «слуха» его разума, терял силу, рассеивался, как пар на холодном стекле. Он сконцентрировался, сжал мысленные мускулы.
«Я НЕ ХОЧУ ЗДЕСЬ БЫТЬ!»
Шёпот стал чуть громче, но всё равно оставался шёпотом. Блёклой копией того яростного, оглушительного внутреннего вопля, на который он был способен ещё вчера. Это было похоже на то, как если бы он кричал, зарывшись лицом в подушку. Эхо глохло, не успев родиться.
Паника, холодная и липкая, поползла по его животу. «Что со мной?» – прошептал он мысленно, и этот шёпот прозвучал куда естественнее, чем попытки крика.
Он вскочил с кресла, сердце заколотилось в унисон с нарастающим ужасом. Это уже не было давлением извне. Это было что-то внутри. Тишина просочилась сквозь щели его черепа. Она глушила его изнанку.
«Нет, нет, нет, – забормотал он про себя, и его внутренний голос снова стал тихим, испуганным, почти детским. – Это просто воображение. Самовнушение. От страха».
Но он знал, что это не так. Он чувствовал это на каком-то животном, первобытном уровне. Процесс уже начался. Не снаружи, а изнутри. Его собственная психика, его «я», начало подстраиваться под окружающую среду. Как организм учится дышать разреженным воздухом в горах. Только здесь он учился… затихать.
Он не мог этого допустить. Он должен был бороться. Сейчас. Прямо сейчас.
Он сделал глубокий вдох, набрал в лёгкие воздуха, ощущая, как грудная клетка расширяется. Он сжал кулаки и с силой, отчаянием и яростью вытолкнул из себя звук. Не слово. Не крик. Просто гортанный, громкий, натужный кашель.
«А-гхм!»
Звук ударил по тишине, как обух по стеклу. Он прозвучал оглушительно громко, дико, неприлично. Словно в симфонический оркестр ворвался человек с барабанной установкой и ударил по тарелкам.
Маркус замер, ошеломлённый собственным поступком. Его лёгкие горели. Горло саднило. Эхо от кашля раскатилось по пустой гостиной, ударилось о стены и вернулось к нему, уже ослабленным, но всё ещё чудовищным на фоне привычной беззвучности.
И тогда его накрыла вторая волна паники. Ещё более сильная. Дикая, иррациональная.
«Они услышали! Они все услышали!»
Он стоял, не дыша, и слушал. Прислушивался к реакции мира. К скрипу половиц у Элдера. К шагам на улице. К хлопку двери. К чему угодно.
Но снаружи было тихо. Та же самая, непробиваемая, всепоглощающая тишина. Она не отреагировала. Она просто поглотила его кашель. Втянула его в себя, как болото втягивает упавший камень, не оставив и пузырька на поверхности.
Это было хуже, чем если бы кто-то пришёл с проверкой. Это абсолютное, безразличное поглощение означало, что его бунт не имел никакого значения. Его отчаянная попытка доказать себе, что он ещё жив, не произвела ни малейшего впечатления на этот мир. Он был букашкой, пищащей на дне ущелья.
Он медленно опустился на колени, потом на пол, свернувшись калачиком на холодном паркете. Дрожь пробегала по его телу волнами. Он снова попытался крикнуть внутри себя.
«Помогите».
Мысль была тихой, слабой, едва различимой. Как шёпот «Тихого». Его внутренний голос, его последняя крепость, сдавалась без боя. Он больше не был громким и ясным. Он был приглушённым, далёким, словно доносился из-за толстой, герметичной двери.
«Это уже начинается?» – прошептало то, что осталось от его сознания.
Ответом была лишь тишина. Снаружи. И, что было страшнее всего, – внутри. Он лежал на полу и чувствовал, как его собственное «я» медленно, неотвратимо затихает, подчиняясь беззвучному ритму Тихого Берега. И он был бессилен это остановить.
Он не знал, сколько времени пролежал на полу, прислушиваясь к тихому шёпоту своего отступающего разума. В конце концов, он поднялся, движимый остатками инстинкта самосохранения и потребностью в хоть каком-то контакте с реальностью, даже враждебной. Он подошёл к окну в гостиной, не включая света, и стал частью темноты, наблюдателем в собственной тюрьме.
Луна, полная и холодная, висела в беззвёздном небе, заливая Тенистую аллею призрачным, серебристым светом. Тени от идеальных заборов и безупречных крыш ложились длинными, искажёнными полосами, превращая знакомый пейзаж в набор абстрактных чёрно-белых фигур. Было поздно. Настолько поздно, что даже те немногие ночные звуки, что могли бы быть – шорох ежа в кустах, пролёт мотылька – отсутствовали. Абсолютный вакуум.
И тогда он увидел его.
На противоположной стороне улицы, в полосе лунного света между двумя тенями, медленно двигалась фигура. Это был «Тихий». Маркус не разглядел лица, только силуэт – согбенную спину, опущенную голову. В руках он держал метлу. Он подметал тротуар.
В два часа ночи. При лунном свете.
Его движения были такими же, как у того уборщика днём – плавными, выверенными, лишёнными смысла. Метла скользила по чистому асфальту, сметая несуществующую пыль, не производя ни единого звука. Это была пародия на работу, сонная пантомима, исполняемая для невидимой аудитории. Или для самого себя – чтобы занять тело, пока разум давно уже уснул, впал в летаргию.
Маркус стоял у окна, затаив дыхание, чувствуя, как холодное стекло давит на лоб. Он наблюдал за этим призрачным дворником, и в горле у него вставал ком. Это было так безнадёжно, так одиноко, что даже страх на мгновение отступил, уступив место леденящей душу жалости.
И вдруг фигура остановилась.
Ровно посередине взмаха. Метла замерла в воздухе, словно вкопанная. Голова медленно, с почти механической плавностью, поднялась. Тень от козырька кепки скрывала лицо, но Маркус почувствовал, как его взгляд устремляется через улицу, сквозь стекло, прямо на него.
Он не двигался. Просто стоял и смотрел. Смотрел в тёмный прямоугольник окна Маркуса, за которым тот прятался. Это не было угрозой. В его позе не было ни вызова, ни ненависти. Это было… наблюдение. Спокойное, непрерывное, всевидящее. Он знал, что Маркус там. Он, возможно, знал это всё время.
Маркус отпрянул от окна, сердце заколотилось, вырываясь из груди с такой силой, что ему показалось, его слышно на улице. Он прижался спиной к холодной стене, в стороне от окна, в полной темноте. Глаза были широко раскрыты, он ловил ртом воздух. «Он видел меня. Он видел меня. Он видел меня».
Но почему это так пугало? Его видели и раньше. За ним наблюдали из-за тюлевых занавесок, из окон кафе. Но это было иначе. Это был прямой, осознанный, преднамеренный контакт. «Тихий» вышел из своей роли безмолвного фантома и посмотрел на него. Не украдкой. А открыто. Как будто ставя метку. Как будто напоминая: «Я здесь. Я вижу тебя. Мы все видим тебя».
Маркус рискнул выглянуть, прижавшись щекой к косяку окна и бросив быстрый взгляд одним глазом.
Дворник всё так же стоял. Всё так же смотрел на его окно. Его метла по-прежнему была замерша в воздухе. Он был похож на статую, стражника, поставленного охранять его ночной покой. Или отмечать его дом как следующий в списке.
Задыхаясь, Маркус отполз вглубь комнаты. Он не смел подойти к окну снова. Он сидел на полу в темноте, обхватив колени руками, и чувствовал на себе тяжесть этого взгляда. Он ощущал его физически, как лёгкое, но неумолимое давление на кожу. Этот взгляд видел его не просто как нового жильца, не как нарушителя спокойствия. Он видел в нём будущего. Будущего «Тихого».
И самое ужасное было в том, что, сидя в темноте и слушая приглушённое эхо своих мыслей, Маркус начал понимать, что этот взгляд, возможно, видел правду. Борьба была проиграна. Не потому, что он сдался, а потому, что сам воздух, сама ткань реальности в этом месте была против него. Его воля, его «я» растворялись, как сахар в воде.
Он сидел так до самого рассвета, боясь пошевелиться, боясь подойти к окну и увидеть, что тот силуэт всё ещё там, всё ещё ждёт. Когда первые лучи солнца упали на пол, он понял, что больше не чувствует себя человеком в своём доме. Он чувствовал себя экспонатом в музее. А «Тихие» были смотрителями, которые терпеливо ждали, когда его душа окончательно затихнет, чтобы можно было выставить её на всеобщее обозрение – ещё один безупречный, безмолвный экземпляр в коллекции Тихого Берега.
Глава 3: Холод в Горле
Ночь вновь окутала Тихий Берег своим беззвучным саваном. Маркус сидел в гостиной, и единственным источником света была настольная лампа, отбрасывающая желтоватый круг на раскрытую книгу. Но он не читал. Он смотрел на строки, не видя их, его пальцы нервно и прерывисто барабанили по обложке. Внутри него всё кипело.
Это была не та ярость, что выплёскивается наружу криками и битьём посуды. Это нечто иное – густое, чёрное, вязкое, словно раскалённая смола. Оно копилось днями, неделями, с тех самых пор, как он сюда приехал. Каждый шёпот за стеной, каждая осторожно притворённая дверь, каждый украдкой сделанный шаг – всё это подливалось в тлеющую внутри топку. Он злился на мистера Элдера с его вежливыми предостережениями. Злился на «Безмолвных» за их покорность. Злился на весь этот город-муравейник, живущий по абсурдным правилам. Но больше всего он злился на себя. На собственную трусость. На то, что позволил этому месту запугать себя, загнать в угол собственного дома.
«Свобода, – с горькой иронией подумал он, и его внутренний голос, некогда такой ясный, теперь звучал приглушённо, будто доносился из соседней комнаты сквозь ватную стену. – Переезжаешь в новый город в поисках свободы, а оказываешься в самой настоящей тюрьме. Только решётки здесь не железные, а из тишины».
Его взгляд упал на книгу в руках. Тяжёлый том в плотном переплёте, антология американской поэзии. Он сжал пальцы, ощущая шершавую ткань обложки. И вдруг, повинуясь не внезапному импульсу, а именно этому сгустку ярости, разжал руку.
Книга упала.
Не со стола, а с его колен на пол. Она не полетела, не грохнула. Она просто съехала и ударилась о полированный паркет глухим, тяжёлым стуком.
Звук не был оглушительным. Но в мёртвой тишине ночи он прозвучал как взрыв. Он был грубым, материальным, реальным. Звуком падающего предмета, а не призрачным шорохом.
И тут же, мгновенно, сработал условный рефлекс. Маркус весь сжался, вжимаясь в кресло, его взгляд метнулся к окну, к дверям. Сердце заколотилось, отбивая в висках адскую дробь. «Нарушил. Снова нарушил. Они услышали».
Но на смену страху, быстрому и животному, пришла новая волна – волна досады. Досады на эту свою собственную, мгновенную реакцию. На этот панический ужас перед самим собой, перед собственным, пусть и случайным, действием.
Он хотел крикнуть. Не от страха. От ярости. Он свел челюсти, сжал кулаки, его грудная клетка напряглась, готовая вытолкнуть наружу весь этот накопленный гнев, весь этот пар. Он представил, как его голос, громовой и яростный, разрывает удушливую тишину, бьёт в стёкла, заставляет вздрогнуть спящий город.
Он сделал вдох. Глубокий, полный. Воздух наполнил лёгкие, готовый стать оружием.
И ничего не вышло.
Ни единого звука.
В горле стоял ком. Плотный, живой, холодный шар из страха и подавленной воли. Он перекрыл дыхание, заблокировал голосовые связки. Маркус сидел с открытым ртом, безмолвно, как рыба на берегу, пытаясь выдавить из себя хоть что-то – хрип, стон, проклятие. Но его горло было сжато тисками невидимой силы, гораздо более мощной, чем его собственная ярость.
Он пытался мысленно крикнуть, поддержать себя изнутри, но его внутренний голос, его последний союзник, откликнулся лишь слабым, искажённым эхом: «…крич… ни… можешь…» Словно радио, ловящее одну помеху, голос был обрывочным, лишённым силы и убеждённости. Он не подбадривал, не возмущался. Он просто констатировал жалкий факт.
Отчаяние охватило его, ледяное и тошнотворное. Это был уже не страх перед наказанием извне. Это был страх перед самим собой. Перед тем, что он теряет контроль над собственным телом. Что его воля, его эмоции, его самое базовое право – право издать звук – больше ему не принадлежат. Механизм подавления сработал не где-то снаружи. Он сработал внутри. Его собственная психика, его тело стали тюремщиками.
Он медленно поднял книгу с пола, его руки дрожали. Он поставил её на стол, постаравшись не издать ни звука, и в этом действии был такой горький, такой унизительный фатализм, что слёзы выступили на глазах. Он не позволил им скатиться. Он просто сидел и смотрел на книгу, ощущая холодный ком в горле, который теперь стал постоянным, словно шрам. Он боялся, что этот ком – не просто мышечный спазм. Что это физическое воплощение тишины, поселившейся внутри. И что однажды она разрастётся и заполнит его всего, и тогда его мысли замолкнут навсегда, а его голос, даже внутренний, станет таким же беззвучным шёпотом, как у тех, кого он когда-то с таким ужасом наблюдал со стороны.
Солнце стояло в зените, заливая мир безразличным, ярким светом. Воздух был неподвижен и густ, как всегда. Пахло жасмином и свежескошенной травой – ароматы, которые когда-то казались Маркусу блаженными, а теперь напоминали о парфюмерии, маскирующей запах тления. Он стоял у своего забора, делая вид, что поправляет криво растущий – на самом деле идеальный – побег розы, и ждал. Он знал, что мистер Элдер появляется в это время, чтобы полить свои петунии.
Как по расписанию, дверь в доме соседа открылась, и тот вышел на крыльцо. Он был в таких же безупречных бежевых брюках и клетчатой рубашке, словно обладал неограниченным запасом одинаковой одежды. В руках он держал лейку из тёмной полированной меди. Его движения были плавными, размеренными, лишёнными суеты. Он поливал цветы с сосредоточенностью хирурга, выполняющего сложную операцию.
Маркус сделал глубокий вдох, чувствуя, как холодный ком в горле сжимается. Он должен был это сделать. Он должен был попытаться понять. Хотя бы для того, чтобы убедиться, что не сходит с ума.
– Добрый день, мистер Элдер, – произнёс он, и его голос прозвучал хрипло, словно горло было усыпано песком. Он сглотнул, пытаясь прочистить его.
Элдер медленно повернул голову. Его лицо озарилось той самой узнаваемой, безжизненной улыбкой.
– Добрый день, Маркус. Прекрасная погода, не правда ли? Идеальная для сада.
– Да, – хрипло согласился Маркус. Он сделал паузу, подбирая слова. – Я… хотел кое о чём спросить.
– Конечно, – вежливо отозвался Элдер, возвращаясь к поливу. – Я к вашим услугам.
Маркус посмотрел на улицу, где царила мёртвая тишина, нарушаемая лишь тихим шелестом воды из лейки.
– Эти люди… – начал он, чувствуя, как каждое слово даётся с трудом. – Те, кто… очень тихие. Я видел их в магазине, на улице… Они все… такие?
Лейка в руке Элдера не дрогнула. Он продолжал поливать с той же методичной точностью.
– О, вы о тех, кто ценит покой превыше всего, – сказал он своим ровным, дикторским голосом. – Да. Они нашли свой… путь. Их путь – это безмолвие. Мы все идём к нему в своём темпе, но они… они достигли цели раньше других.
Маркус почувствовал, как по спине пробежали мурашки. «Цель». «Путь». Это звучало как цитата из какого-то изуверского духовного учения.
– Но… что с ними случилось? – выдавил Маркус, и его голос сорвался на шёпот. Он снова попытался прочистить горло, но комок никуда не девался. – Они же… они как пустые.
Элдер наконец оторвал взгляд от петуний и посмотрел на Маркуса. Его глаза были спокойными, ясными, как горное озеро.
– Пустые? О, нет. Они просто… освободились. Освободились от суеты, от гнева, от всех этих беспокойных мыслей, что терзают обычных людей. Они обрели совершенный покой. Город благодарен им за их жертву.
– Жертву? – прошептал Маркус. Он чувствовал, как его собственное дыхание становится прерывистым. – Какую жертву?
– Жертву шумом, – мягко объяснил Элдер, словно говорил с неразумным ребёнком. – Своим голосом. Своей… индивидуальностью. Ради общего блага. Ради гармонии. Разве вы не чувствуете, как прекрасна эта гармония, Маркус?
Маркус смотрел на него, и ужас медленно поднимался по пищеводу, холодный и тяжёлый. Самое страшное было не в словах, а в тоне. В абсолютном, непоколебимом принятии этого кошмара. Для Элдера это не было ужасом. Это была философия. Естественный порядок вещей.
– А если… – голос Маркуса предательски дрогнул, – если кто-то не захочет… идти этим путём?
Элдер мягко улыбнулся, и в его глазах на мгновение мелькнуло нечто, похожее на жалость.
– Все хотят покоя, Маркус. Рано или поздно. Просто некоторым требуется больше времени, чтобы это понять. – Он поставил лейку на крыльцо и вытер руки о безупречный фартук. – Не боритесь с этим. Примите. Чем раньше вы примете тишину внутри себя, тем проще и приятнее будет ваша жизнь здесь. Поверьте мне.
Он кивнул, словно ставя точку в беседе, и повернулся, чтобы уйти в дом.
Маркус стоял, парализованный. Его горло сжалось так сильно, что он с трудом дышал. Он пытался что-то сказать, возразить, крикнуть, что это безумие, что они все сумасшедшие. Но из его губ вырвался лишь сдавленный, сиплый звук, больше похожий на шипение.
Дверь дома Элдера закрылась с тихим, идеально приглушённым щелчком.
Маркус остался один посреди яркого, солнечного дня, и тишина вокруг внезапно ожила. Она стала хищником, которого только что накормили. А он был следующим в очереди. Он чувствовал это своим горлом – холодный, твёрдый ком его собственного будущего безмолвия, растущий с каждым подавленным словом, с каждым сдержанным криком. Он повернулся и побрёл к своему дому, его походка была неуверенной, а в ушах стоял навязчивый, приглушённый звон – звук его собственного сдающегося разума.
Библиотека Тихого Берега располагалась в старом, но безупречно отреставрированном здании из красного кирпича. Войдя внутрь, Маркус почувствовал, как его обволакивает запах старой бумаги, кожи переплётов и воска для полов. Здесь тишина была не просто отсутствием звука; она была культивированной, вековой, словно в гробнице фараона. Даже воздух казался гуще и неподвижнее, чем на улице.
Полки уходили ввысь до самого потолка, заставленные ровными рядами книг. Ни единого криво стоящего тома. Ни единого пятнышка на ковровой дорожке, поглощающей шаги. Маркус медленно прошёл между стеллажами, чувствуя себя варваром, ворвавшимся в святилище. Его взгляд скользил по корешкам, но мозг отказывался воспринимать названия. Ему была нужна одна конкретная книга. Регистр городских архивов. Последняя, отчаянная попытка найти хоть какую-то логику, хоть какой-то след в истории этого места, который объяснил бы безумие.
Он нашёл её в дальнем углу зала, на полке, помеченной «Краеведение». Тяжёлый фолиант в тёмно-зелёном переплёте. Он потянулся, чтобы снять его, и его пальцы дрогнули. Книга была намертво прикована к полке тонкой, почти невидимой цепью.
Ледяная игла страха вошла ему под лопатку. «Даже знания здесь под замком», – прошептал он про себя, и его внутренний голос отозвался глухим, далёким эхом.
Он обошёл стеллаж и увидел небольшой деревянный прилавок, за которым сидела библиотекарь. Женщина лет пятидесяти, в строгом платье с высоким воротником. Её седые волосы были убраны в тугой пучок. Она не читала, не писала. Она просто сидела, сложив руки на коленях, и смотрела прямо перед собой. Её лицо было маской спокойствия. «Безмолвная».
Маркус почувствовал, как знакомый холодный ком сдавил ему горло. Ему нужно было спросить у неё, как получить доступ к книге. Простой, бытовой вопрос. Но он стоял в нескольких шагах от неё, и его ноги словно вросли в пол. Он наблюдал за ней. Она дышала так медленно и поверхностно, что грудь почти не поднималась. Казалось, сама жизнь в ней замерла, оставив лишь автоматические функции.
«Спроси. Просто открой рот и спроси», – приказал он себе.
Он сделал шаг вперёд. Ещё один. Он стоял прямо перед прилавком. Женщина не шелохнулась, не моргнула. Она смотрела сквозь него.
Маркус открыл рот. Он приготовился издать звук, любой звук. Но его голосовые связки, казалось, атрофировались. Горло было пересохшим и сжатым. Он попытался силой вытолкнуть из себя воздух, сформировать слово «здравствуйте».
Но то, что вырвалось наружу, не было словом. Это был сдавленный, сиплый, едва слышный шёпот. Нечто среднее между выдохом и клекотом больной птицы. Звук был таким слабым, что он сам едва расслышал его.
И тогда произошло нечто.
Библиотекарь медленно, очень медленно подняла на него взгляд. Её глаза, до этого мутные и пустые, сфокусировались. В них не было ни удивления, ни раздражения, ни вопроса. В них было… ожидание. Терпеливое, почти благожелательное ожидание. Она смотрела на него так, как садовник смотрит на проклёвывающийся росток, зная, что тому суждено прорасти.
Она не сказала ни слова. Она просто смотрела, и в её взгляде читалось молчаливое понимание. Понимание того, что он только что перешёл некий рубеж. Что его голос, каким бы жалким он ни был, впервые добровольно приспособился к их правилам. Он заговорил на их языке. Шёпотом.
Затем она очень медленно, почти церемониально, кивнула. Всего один раз. Коротко. Этот кивок был наполнен таким глубоким, таким жутким смыслом, что у Маркуса перехватило дыхание. Это не был кивок «да» или «я вас слушаю». Это был кивок «добро пожаловать». «Добро пожаловать в наши ряды».
Ужас, холодный и пронзительный, как лезвие ножа, вонзился в Маркуса. Он отшатнулся от прилавка, споткнулся о край ковровой дорожки и чуть не упал. Он больше не смотрел на женщину. Он повернулся и почти побежал к выходу, его шаги, несмотря на ковёр, казались ему невыносимо громкими.
Он вырвался на улицу, на яркий, обманчивый солнечный свет, и прислонился к стене, тяжело дыша. Он провёл рукой по горлу, пытаясь нащупать тот предательский ком, который украл его голос и заменил его этим уродливым шёпотом.
Он не просто испугался реакции библиотекарши. Он испугался того, что увидел в её глазах. Не пустоту. А признание. Она видела в нём своего. И самое ужасное было в том, что в тот миг, когда его горло выдало этот шёпот, он на каком-то уровне и сам почувствовал это странное, извращённое облегчение. Облегчение от того, что больше не надо пытаться кричать. Что можно просто… затихнуть.
День тянулся, бесцветный и безвоздушный. Тишина в доме стала плотной, осязаемой, как стены. Маркус сидел в гостиной, и отчаяние медленно сменялось тупой, апатичной тоской. Его внутренний голос затих до едва различимого фонового шума, похожего на гул высоковольтных проводов где-то за горизонтом. Мысли текли вяло, обрывочно, лишённые энергии.